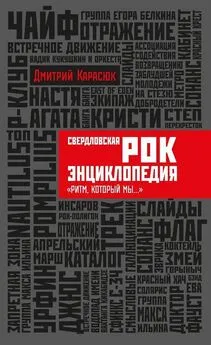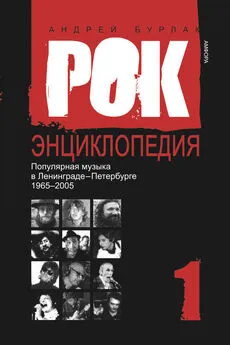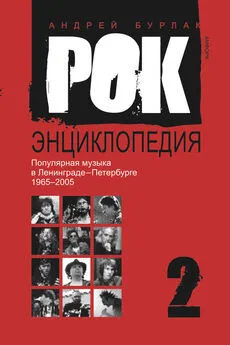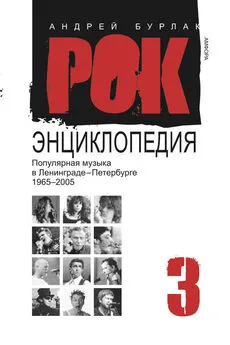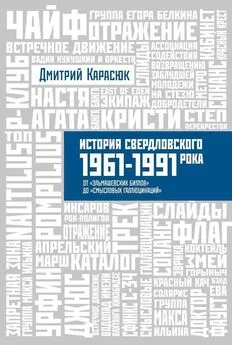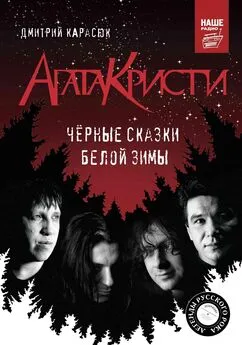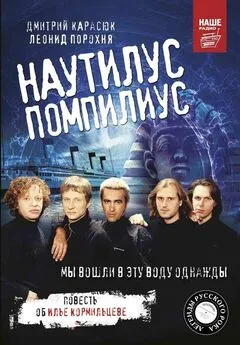Дмитрий Карасюк - Свердловская рок-энциклопедия Ритм, который мы...
- Название:Свердловская рок-энциклопедия Ритм, который мы...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кабинетный ученый
- Год:2016
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-7525-3094-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Карасюк - Свердловская рок-энциклопедия Ритм, который мы... краткое содержание
Настоящее издание является второй частью книги Дмитрия Карасюка об истории свердловского рока. Первая часть называется «История свердловского рока 1961–1991. От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»». Обе части одновременно вышли в свет.
Свердловская рок-энциклопедия Ритм, который мы... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
28 марта 1978 года сладкими посулами в студию был заманен лидер столичного джаз-рокового «Арсенала» Алексей Козлов. Он пришел на репетицию «Сонанса» после гастрольного концерта усталый, недовольный, но, услышав музыку, как завороженный просидел три часа. Это взаимоприятное общение было одним из первых контактов свердловчан с музыкантами из других регионов страны. «До этого советской музыки мы вообще не слушали, кто что играет и поет, не знали. Контур был закрыт, и мы варились в собственном соку», — говорит Скрипкарь.
Вскоре в этом контуре была пробита еще одна брешь. В мае на очередной студенческий фестиваль «Весна УПИ» пригласили «Машину времени». Во Дворце молодежи и москвичи, и «Сонанс» выступали вне конкурса, что естественным образом сблизило два коллектива. Андрей Макаревич посмотрел программу «Сонанса», которая произвела на него глубокое впечатление, но ничего не понял. Через двадцать лет в своей книге «Все очень просто» он писал, что «гpуппа Пантыкина игpала cовеpшенно заумную музыку, но без cлов, и это их cпаcало». Во время обмена мнениями московский гость сказал: «Играть очень сложную музыку легко. А вы попробуйте написать простую песню с русским текстом». «Нефиг делать!» — ответил Пантыкин, и на два года погрузил «Сонанс» в сочинение русскоязычной песни. Получалось как-то не очень. Проще всего было написать что-то «под Макаревича» — так поступали многие, но «сонансы» считали это ниже своего достоинства. «Я официально заявляю: мы бы такую музыку играть не стали, она казалась нам примитивной, — утверждает Михаил Перов. — Да, все классно, выходят трое, поют удобослушаемые, понятные всем песни, зал тащится… Это вам не Прокофьева мочить! Но уж если играть что-то песенное, значит, надо решать, что именно играть!» И «Сонанс» стал думать над новой оригинальной программой.
В коллективе началось брожение. «Мы принципиально не хотели походить ни на кого. Не только в Советском Союзе, но и в мире», — вспоминает Пантыкин. С этим были согласны все. Демон раздора таился в деталях. Пантыкин выступал за песенную форму, а Скрипкарю казалось, что «Машина времени» — это частный случай, и таких групп больше быть не может…
Тем временем жизнь не стояла на месте. Московский музыкальный журналист Артемий Троицкий, познакомившийся с «Сонансом» на «Весне УПИ», пригласил группу на фестиваль в Черноголовку 28–29 октября 1978 года. Там, на одном из первых в СССР рок-фестивалей, проходившем во Дворце культуры Научно-исследовательского института биологических исследований (с прелестной аббревиатурой НИИБИ), «Сонанс» исполнил большую программу. Прозвучали «Зеркала», «Горбатый», «Пасха», «Пассакалия ля минор» и две песни из цикла «Джельсомино». Подмосковная публика отнеслась к уральцам сдержанно. Примерно пятая часть 400-местного зала приняла «Сонанс» и устроила ему овацию, но большинство зрителей непонимающе молчали. После концерта один из музыкантов случайно услышал такую оценку их творчества: «С детства ненавижу подобную музыку. Как будто холодная жаба за пазуху заползает». Столичные ценители возвышенного всегда отличались тонким чутьем на прекрасное. То, что музыкальная композиция превращалась в головах зрителей в нечто почти материальное, не могло не радовать исполнителей, но все равно необходимость перемен в музыке становилась очевидной почти для всех.
После выступления в Черноголовке стали наклевываться варианты концертов в других городах. Для организации гастролей был необходим толковый администратор, лучше всего из околомузыкальных фарцовщиков — такой и в музыке разбирается, и концерты с выгодой для студии организовать сможет. Пантыкин узнал, что на металлургическом факультете УПИ есть парень, который поставил в комнате общаги барабанную установку и целыми днями лупит по ней. Его порекомендовали как аппаратурного фарцовщика… Так в «Сонансе» появился администратор Евгений Димов. Набив несколько шишек в попытках заинтересовать хоть кого-нибудь умной музыкой «Сонанса», Димов предложил: «Может, парни, по року че-нибудь попробуем?» На этой почве новый менеджер быстро нашел общие интересы с Пантыкиным, настойчиво толкавшим студию к жерлу вулкана, откуда доносился опасный, но завораживающий рок-н-ролльный грохот.
Считал ли себя «Сонанс» рок-группой? На раннем этапе — скорее нет, чем да. В первых дневниках студии слова «сюита», «соната» и «Гайдн» встречаются чаще, чем «припев», «куплет» и «Блекмор». Да и инструментарий был какой-то не очень рокерский: флейты, перкуссия, рояль, скрипка… Электрогитара появилась чуть позже. «Состав у нас был мудреный, как говорится, скрипка, бубен и утюг», — смеется Скрипкарь. Но в тех же дневниках постоянно упоминается западная рок-музыка, прослушивание которой было основным видом отдыха от собственного музицирования. В основном слушали арт-рок, хотя не пропускали мимо себя и то, что было потяжелее. «Мы ошизевали от „Yes“, — вспоминает Михаил Перов. — Когда сочиняли партию баса, мы старались, чтобы она была такая же заковыристая, как у „Yes“. Но эта заковыристость не всегда была понятна широким зрительским массам. Для успеха у аудитории надо было что-то другое».
Движение навстречу слушателям, желание стать более понятными наметилось уже в 1979-м, когда на концерте, посвященном 30-летию физтеха УПИ «Сонанс» выдал нечто, уже сильно отличавшееся от своей прежней музыки. Композиции «Выход силой» и «Как хорошо быть спокойным» сегодняшний Михаил Перов называет «рокопопсой», хотя, справедливости ради, надо заметить, что рока в бытовавшем в 1979 году смысле там было немного, а попс отсутствовал совсем.
Острые споры разгорелись летом 1979 года в период подготовки новой программы «Пилигримы». Композиция не складывалась в единое целое, да и немудрено: «сонансы» представляли ее по-разному. Пантыкину и Савицкому хотелось играть что-то более роковое, Скрипкарь стоял на позиции ортодоксального симфонизма. Попытки договориться (мол, давайте закончим «Пилигримов» в старом ключе, а потом будем искать что-то новое) давали только временный эффект. Стараясь впрячь в одну телегу всех спорщиков, Пантыкин даже изобрел новый термин — «калейдоскоп-рок». Но и эта казуистика помогала слабо.
Взаимное недовольство искало выход. Почти буквально следуя сюжету крыловского «Квартета», «сонансы» начали перестраиваться на ходу. Освобожденной от флейты Насте дозволили петь. Ваню Савицкого сослали на перкуссию и стали искать нового барабанщика. Но не один просмотренный драммер не отвечал высоким требованиям, и Ваня занимал привычное место за своей ударной установкой. Все эти осложнения не могли не сказаться на процессе появления на свет новой композиции. «Пилигримы» рождались в муках. Новая программа в ноябре была представлена публике, но, судя по дневниковым записям, музыканты остались недовольны своей игрой. До полного блеска «Пилигримы» так и не были отшлифованы. Возможно, этому помешало еще и то, что Балашов с Андреевым отвлеклись на вступительные экзамены в консерватории. Андрей поступил в уральскую, а Олег — в московскую (через пару лет он будет играть в столичной группе «Николай Коперник»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: