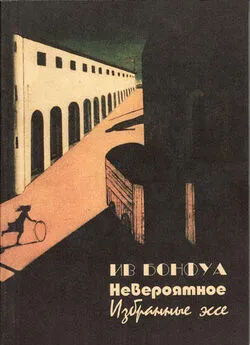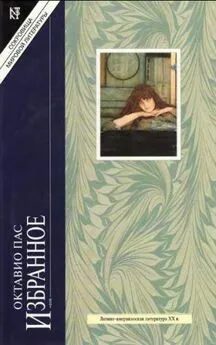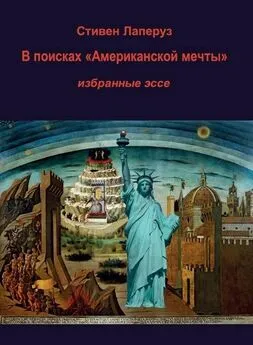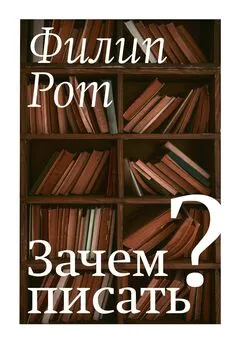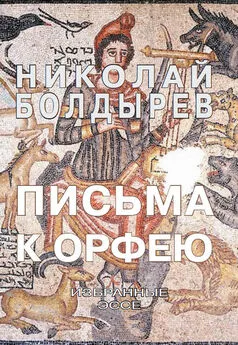Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе)
- Название:Невероятное (избранные эссе)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Carte Blanche»
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-900504-21-12
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе) краткое содержание
Ив Бонфуа (род. в 1923 г.) - один из наиболее известных современных французских поэтов, автор семи книг стихов, многочисленных рассказов и повестей, эссе и статей по проблемам поэтики, художественного перевода и изобразительного искусства. Лауреат премии Монтеня, Французской Академии и др.; доктор honoris causa нескольких европейских и американских университетов. С 1981 г. профессор Коллеж де Франс (второй, после Поля Валери, случай, когда этого почетного звания удостоен поэт).
Первый сборник эссе Ива Бонфуа «Невероятное» был издан в 1959 г., второй — «Сон, приснившийся в Мантуе» — в 1967 г. При втором издании этих книг в 1980 и 1992 гг. автор объединил их под общим названием «Невероятное» и внес в тексты небольшие изменения. Публикуемые переводы выполнены по последней версии (1992 г., издательство «Mercure de France»). Они представляют, условно говоря, «первый период» эссеистики Бонфуа (1953–1967 гг.). Из восьми эссе, составивших «Невероятное», для русского издания были выбраны пять (а также завершающее книгу стихотворение в прозе «Благодарение»), из пятнадцати эссе, составивших «Сон, приснившийся в Мантуе», — восемь (а также завершающий книгу рассказ «Семь огней», ранний образец жанра, который сам Бонфуа называет «рассказами во сие»).
Переводы «Благодарения», эссе «Византия», фрагмента эссе «Французская поэзия и принцип тождества» и эссе «Под октябрьским солнцем», публиковавшиеся ранее в периодике, переработаны для настоящего издания.
Невероятное (избранные эссе) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я не думаю, что искусство может, не изменяя себе, удовлетвориться ролью подобного убежища. Впрочем, и я отдаю Византии должное, чувствуя в глубине души — без сомненья, как многие мои современники, — что ее зов не смолкал никогда. Но всегда ли в нем звучало одно и то же слово? Что касается меня, то в этом зове — смутном, уловленном на еще не вполне прояснившихся границах этой страны, еще не вполне, со всеми его тончайшими переливами, расслышанном — я различил не Феодору, блещущую золотом, но лежащую в руинах Мистру, не павлина, но камень. И тут же связал его с желанием, жившим во мне и давно искавшим свою родину, желанием как можно теснее приблизиться к самым мимолетным и, на первый взгляд, не самым важным явлениям, в которых открывает себя наш мир, — чтобы возвести их в высшее достоинство и вместе с ними спасти самого себя. Действительно, каждый раз, когда я слышал птицу, певшую в бесконечно далеком от меня лесу, когда я стоял над горной котловиной, переполненной моим отсутствием, когда ограниченное и смертное «здесь» просило меня сломать печать отторгнутости от бытия, наложенную на него нашим временем, во всем этом, казалось мне, — с тех пор как я узнал название города образов, — я угадывал излучение Византии. И, как всегда, это было прикосновением к вечности: главная нота Византии, звучавшая во все времена, дрожала в воздухе и теперь. Но эта вечность уже не выглядела отрицанием чувственного мира, того распыления сущностей, в которое мы погружены, она пылала в земных деревьях, ее надо было черпать из глубины этого мира, потому что она оказывалась, против всех ожиданий, самим его веществом, его сияющей, нетленной плотью. Всеми видами саморастраты, и прежде всего — путешествием. Как только корабль выходит из гавани в ночное плавание, впереди, словно далекий берег, вспыхивает блеск невидимой Византии. Я полюбил называть этим словом все, у чего нет названия: непостижимость вещей, опасные ситуации, руины, города, возникающие на горизонте, вспаханные поля. Не обманывал ли я себя? Но мне встречались и такие места, где можно было почти без помех расслышать голос, выделявшийся из множества других голосов, которые доносятся к нам от исторической Византии, и, я думаю, подтверждавший мою правоту. Мне вспоминается Торчелло, некоторые греческие церкви, их стены и фрески, залитые солнцем. И Спаситель из Сопочан {97} 97 Спаситель из Сопочан — имеется в виду фреска «Успение» на западной стене церкви Святой Троицы в Сопочанах (время создания ок. 1265 г.)
.
Сопочаны! По-моему, нет ничего более совершенного, чем эта церковь в горах. И я хочу, чтобы на этих страницах она предстала входом в ту страну истины, образ которой я пытаюсь создать.
Уже долины на подступах к Сопочанам, залитые какими-то бесцветными лучами, похожи на митрополию, которая рисуется в воображении. Сербские горы все проясняют своим строгим светом. Дух праздного созерцания в этом краю сразу же улетучивается; кажется, сама природа здесь восходит к собственному гребню и внезапно скрывается за ним: безмолвные ущелья, горные реки, неприметные люди, черные дороги — все это разом исчезает, словно тающее в небе пламя. Местные монастыри обнесены широкими кругами каменных стен, и это тоже уподобляет их небесам. Внутри этих оград, где стоит одна, иногда две ветшающие церкви, и откуда во всю свою ширь открывается плещущий горизонт, важно ходят по бурой земле синие красавцы-павлины.
Но вот мы уже в самой церкви, и на внутренней поверхности большой арки, слева, под капителью, невредимый среди нагромождения руин, как некий дар, как милость, нас приветствует ангел. Ничто, однако, не может сравниться с главной, самой величественной фреской. И когда мы смотрим на нее, в лучах октябрьского солнца внезапно звучит слово истины, которое мы так долго искали. Как он близок к нам, богочеловек, представший в этом сразу же пустеющем зале! И с какой безупречной точностью, исполняя наше самое глубокое желание, он сводит воедино два несводимых предмета западной мысли: бренность (ставшую для нас роком) и вечность. Прекрасный лик, окруженный светящимся нимбом, задумчивый, величавый и как будто удрученный… но здесь же, рядом, его полк, покоривший мир: оружие, сонмы воинов, нескрываемые проявления чисто человеческой силы, — и обманчивые упрощения, которыми так часто едва не губило себя диалектическое стремление нашего духа, исчезают как не бывало. Сопочанский бог не вносит искажений. Это не Аполлон шестого века, похожий, при всем блеске своей мощи, на прямой ствол дерева, на чистое и слепое растение, — ведь Греция хотела видеть в человеке лишь одну из форм жизни, хотела растворить его в своих внеличностных разрядах и числах, не ведая о совсем ином царстве — конечном существовании сознающей себя личности. Но, дышащий телесной крепостью и живым изяществом, он уже перестал быть и христианским богом, который вновь утвердил личность только для того, чтобы отделить ее от ее природных качеств, а ее бренность превратить в нечто греховное, — как если бы наконец осознанной боли, таящейся в двойной природе человека, надлежало сделаться какой-то самоцелью. Пусть и знающий цену этой боли, склонивший голову, словно Иисус на кресте, молодой бог из сербской церкви не забывает, что он свят и что в его святости покоятся мощь и слава. И больше того: он открывает нам средство к освобождению. Сопочанский Христос — это помнящий о своем родстве сын Успения: движимый любовью, он вновь нисходит к нашему смертному уделу. Перед ним простерто большое и черное тело, останки старой женщины — сама реальность, казалось бы, обреченная на уничтожение, на смерть. Но он, возлюбив ее, ее преображает, его руки возносят новорожденного младенца, которому вновь дает жизнь его безграничная заботливость. Если вдуматься, этот Христос — наше самое желанное будущее, то, чем мы могли бы стать, если бы сумели поверить, что смерти нет, если бы научились видеть и любить. Никогда божественный образ не был так похож на высший предел нашего субъективного стремления, никогда он с такой легкостью не входил во внутренний мир того, кто пытается быть поэтом, никого так тесно не сближался с самим духом современной поэзии.
Византийское искусство — может быть, впервые в истории — заговорило от имени человека, упрямо отстаивающего свою единичность, но вместе с тем жаждущего возвращения под кров бытия. И каким бы субъективным ни было это искусство (почему его так полюбила эпоха «декаданса» и, позже, Йейтс), оно не смирилось с изгнанием, оно искало условия, которые позволили бы жизни вернуться в лоно святости, отбирало эти условия в опытном поле художественных форм. Его образы внеличностны, но нет смысла ставить это ему в вину. Разумеется, они чрезвычайно от нас далеки, словно снежные вершины, — но существуют они только ради нас, как мечта о том, чтобы особая природа человека могла, уже не отрекаясь от самой себя, явить себя в качестве абсолюта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: