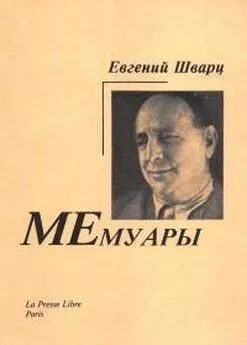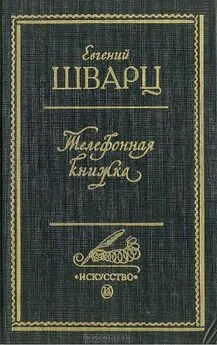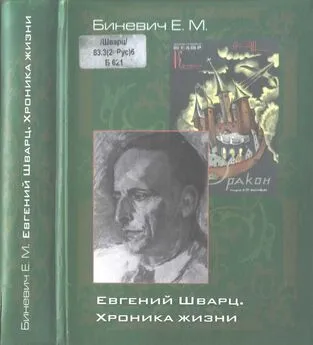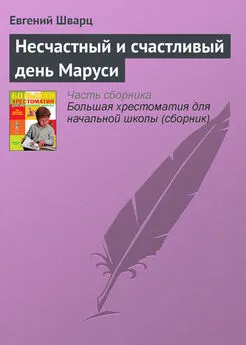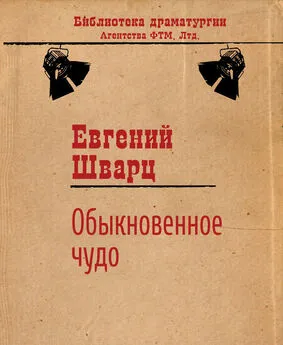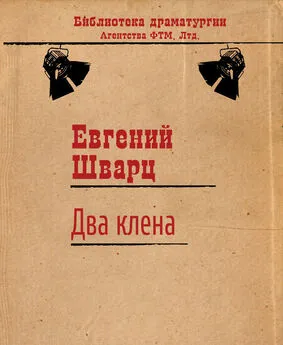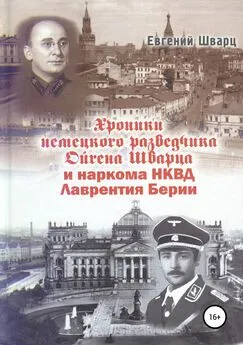Евгений Шварц - Мемуары
- Название:Мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:La Presse Libre
- Год:1982
- Город:Paris
- ISBN:2-904228-02-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шварц - Мемуары краткое содержание
Мемуары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
4) отказ от морализаторского стереотипа важен для имплицитно выстраивающегося образа автора — как объективного, непредвзятого повествователя (что, опять — таки, укрепляет доверие к тексту).
В пьесах основным приемом было пародирование языковых клише, здесь — на первом месте поиски эпитета.
Хотя среди эпитетов и встречаются экстравагантные ассоциативные в духе Набокова — Олеши ( пастушеский звук трубы стрелочника; влажный голос моторного вагона; картонажное, игрушечное счастье ), но в основном эпитеты становятся инструментами психологического анализа, т. е. выбираются тщательно, чтобы зафиксировать еще одно вычлененное психологическое качество. Такова функция и простых эпитетов типа /боксом занимался/ пристально, рассудительно , и синестетических — /женщина/ доброжелательная, сырая , и метафорических — добротная /репутация/ (т. е. как прочная и надежная ткань, которую принято называть добротной ).
Та объективность, которой подчеркнуто придерживается автор при изображении наиболее субъективных своих переживаний, приводит к некоторому перераспределению акцентов, падающих на привычные эпитеты, по сравнению с бытовой речью. Так, любуясь Чуковским или Житковым, Шварц не забывает упомянуть толстые губы одного и мутные глаза другого (как это бывало в описаниях у Толстого, эпитеты теряют здесь свойственный им слегка негативный характер). То же в эпизоде с обиженной девушкой — проводницей — упоминается ее кукольно — бессмысленная мордочка . Хотя такое употребление очевидно напоминает Толстого и Чехова, сам писатель указывает, что не все из чеховского наследия принималось в его кругу. Вспомним возмущение Житкова чеховским оборотом офицер в белом кителе :
Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту. А все общее, как бы общеобязательное, утверждаемое или утвержденное всеми, бралось Борисом наподозрение …
— мы видим, что Шварц исповедует те же принципы, что и Житков.
Каламбур, которым так блистал Шварц в своих пьесах и бытовой речи, в этой прозе, с ее точностью найденных или восстановленных словесных значений, выглядел бы чужеродно (что и происходит в том месте, где каламбур все же проскальзывает, о художниках в «Печатном дворе»: хотя и не графы, а графики). Сам автор очень ясно излагает систему «русского юмора», культивировавшуюся в среде обэриутов.
Иронизируя, Шварц не нуждается теперь в резких контрастах, ему достаточно легкого грамматического нажима, чтобы достичь иронического эффекта. Вот он пересказывает письмо Чуковского А. Н. Толстому, лидеру начавшегося в то время коллаборационистского движения в русской эмиграции, названного (по названию сборника статей) «смена вех»: Он приветствовал Алексея Николаевича, сменившего вехи … Фраза была бы стилистически нейтральна в форме, допустим, Он приветствовал Алексея Николаевича, участника «Смены вех»… и т. п. Но название общественного движения, трансформированное в беглый причастный оборот, приобретает, особенно вслед за бытовым именем — отчеством вместо фамилии, бытовое, фамильярное звучание: сменивший вехи ассоциируется в этом контексте для нас с сменивший брюки или сменивший белье , что и разоблачает приспособленчество продажного литератора.
Установка на объективность сказывается и в том, что Шварц охотно уступает повествование персонажам. Отсюда в «ме» много современного фольклора: от малых речений {Не баба, не мужик, не кенарь, не кенарейка, не ворон, не ворона, прическа — Петр Великий!) до целой вставной сказовой новеллы о великом Фатагене Керосиныче, е характерным мотивом гиперболического пьянства (ср. в «Судьбе человека » Шолохова рассказ о пребывании героя в немецком плену). Как мы уже указывали, свое отношение к господствующей идеологии и ее пропаганде Шварц определяет, вкладывая ее штампы в уста отвратительных персонажей. Иногда она пародируется и добродушно: «…заметьте, — прошу у вас, не иду просить на Уоль — стрит!» — говорит нищий.
Мрачный колорит времени передается и пейзажем, на фоне которого совершается рейс электрички. Верный беспристрастному тону прямолинейного отчета, Шварц перечисляет все десять станций маршрута, из которых пять даны с деталями негативного характера: унылый поселок без признаков зелени; церковь, превращенная в склад; гастроном с белой по черному траурной вывеской; могилы, что теснятся над озером; длинные рабочие бараки у самого полотна, — а остальные станции даны с нейтральными деталями, но не положительными.
В целом поэтика нового для Шварца стиля ориентировалась на самостоятельное функционирование точных деталей, «независимость деталей», выражаясь словами поэта, стала основным законом новой литературы. У Шварца в «ме» обилие таких многозначных деталей: татуировка «Эва» на руке нищенки; кошка, обедающая соленым огурцом, сидя на помойном ведре; вывеска «Дерябкинский рынок открыт целый день», невольный амфибрахий которой заставляет героя автоматически версифицировать; — все это детали, не поддающиеся мгновенной и окончательной читательской расшифровке, всегда оставляющие иррациональную жизнь в остатке.
Своеобразными деталями этого же типа можно считать и некоторые грамматические приемы, особенно использование множественного числа в «Пятой зоне» (мы и они). Сначала множественное число используется для описания пассажиров как некоего единого тела. Глаголы, обычно обозначающие действие, совершаемое одним лицом, здесь поставлены во множественное число, причем исподволь их действие переносится с третьего лица («они») на первое множественного («мы»). Видим мы его /поезд/ в лоб. Пассажиры гонятся за ней /электричкой/. Пассажиры делают движение в одну сторону, потом в другую, в растерянности своей никак не могут решить, в какую дверь броситься,, И все мы любовались старшиной… У выхода мы видим… И даже: Тут они делают строгое лицо.
Шварц очень тщательно ритмизует свою прозу. Так атмосфера приподнятости, значительности деяний Чуковского, Маршака, Житкова, их бурной, даже лихорадочной деятельности создается почти исключительно синтаксическими средствами. Фразы, в начале периода достаточно длинные, укорачиваются вплоть до членения точками на отдельные слова. Так происходит патетическое (не без иронии) нарастание ритма. Этой же цели иногда служит инверсия, скажем, перестановка притяжательного местоимения в позицию после слова в пародийно — библейском стиле (Иногда выбегал он из дома своего ), прием, который в последнее время эпигоны используют неумеренно часто.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: