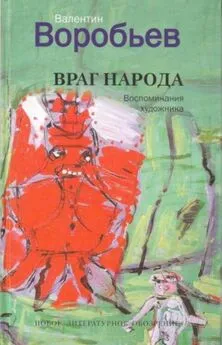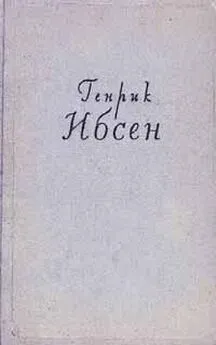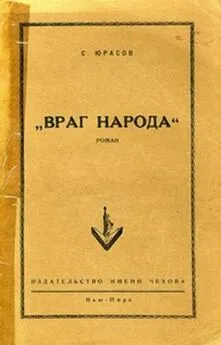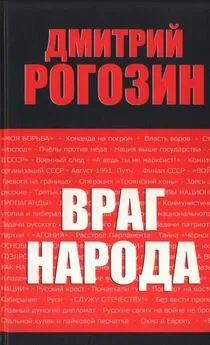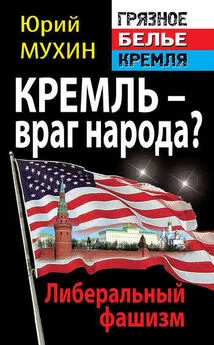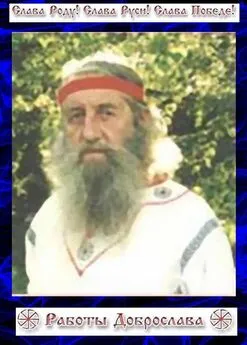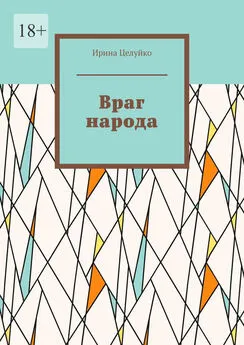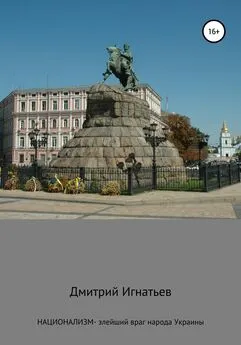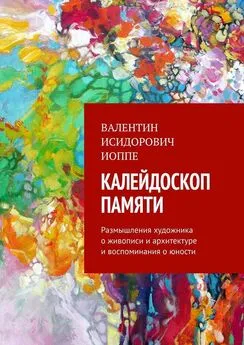Валентин Воробьев - Враг народа. Воспоминания художника
- Название:Враг народа. Воспоминания художника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-345-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Воробьев - Враг народа. Воспоминания художника краткое содержание
Враг народа. Воспоминания художника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это провокация! — завыл струсивший Элий Михайлович.
Несмотря на дерзкий отказ Белютина показать каракули своих подопечных высшему партийному руководству, оккультные провокаторы повысили тон до приказа.
— Да, это был приказ! — заключает партийный белютинец Леонид Рябичев, вызванный в «отдел культуры Москвы» с Н. М. Молевой и Геддой Яновской.
Элий Белютин подчинился и лихорадочно отбирал и сортировал произведения своих учеников. Художник Владимир Янкилевский, участник «Бунта в буфете Манежа», вспоминает:
«К девятке белютинцев в пожарном порядке пристегнули группу — Соостера, Соболева, Неизвестного и меня, показавших свои работы в гостинице „Юность“».
Таким образом сколотили мальчиков для битья и разместили в буфете выставочного здания Манеж.
«Двенадцать из них были евреи с кривыми носами и зелеными пальцами, — вспоминает скульптор Эрик Неизвестный, — и лишь одна русская по фамилии В. И. Преображенская».
Такой показательной порки не проводилось давно.
Заговорщики Академии художеств, мечтавшие раздавить опасных и неуправляемых конкурентов, немедленно смекнули, что настал час расправы, и явились в Манеж плотной командой.
Опуская хорошо известное собеседование в буфете, где скрестили сабли Н. С. Хрущев и скульптор Неизвестный с криками «Говно! Пидирасы! Расстрелять!» (Хрущев) и «Нет, я не педераст, а штыковой боец!» (Неизвестный), обратимся к победителям, выигравшим дело.
Для погрома академики подсунули самый слабый пункт московского новаторства — «студию» Белютина, где посредственность и мода, апломб и пустота сразу бросались в глаза. Студия назавтра рассыпалась и никогда не поднялась, но острота конфликта между официозом «соцреализма» и свободой творчества не снизилась, а, наоборот, к нему подключились все новые и новые проблемы идеологического порядка, захватившие всю советскую культуру.
Непрерывные заседания и встречи правительства с представителями советской культуры и литературы длились весь 1963 год. В оборот попали рязанский писатель А. И. Солженицын, написавший правдивую книжку о сталинских лагерях, и бригада живописцев, много тративших казенных денег на никому не нужные монументальные росписи. Наконец, прибавилась таинственная смерть ленинградского вождя Фрола Козлова, обвиненного в спекуляции валютными ценностями в крупных размерах.
(Закон РСФСР от 25 июля 1962 года, статья 88 — лишение свободы на пятнадцать лет или смертная казнь, с конфискацией имущества!)
Поднаторевшие в закулисных интригах академики смекнули, что зашли слишком далеко. Своенравного учителя рисования со сломанной психикой оставили в покое, монументалистов восстановили в «Союзе».
Несколько слов о «системе Белютина», привлекавшей амбициозную молодежь.
Если у «школы Фаворского» потолком мастерства был «объем в пространстве», у Николая Петровича Крымова — «тон изображения», то изобретательный учитель Белютин всем курсантам, независимо от возраста и образования, предлагал кратчайший путь к вершинам гениальности, логически обоснованный и простой. Им ставилась одна задачка — «добиться напряжения произведения» простейшим методом обработки бугристой поверхности при помощи мастихина и краски. Бугристая поверхность в любом классическом жанре — натюрморт, пейзаж, портрет — автоматически создавала высокое напряжение картины.
Курсанты мусолили на палитре фузу и втирали ее на поверхность холста до тех пор, пока не появлялись желанные бугры и напряжение.
«Напряженная вещь!» — была высшая похвала учителя.
Нетрудно догадаться, что такая «система», насквозь фальшивая, держалась в среде невежественного общества, лишенного прямых связей с мировыми экспериментами в искусстве, и, как только общество открылось, «система Белютина» испарилась, как смог под солнцем.
Россия — страна чудес!
Настал новый 1963 год.
Для молодежных журналов я рисовал картинки, но деньги не держались, пропивал с друзьями по пивным барам и снова клянчил работу. В феврале мне повезло. Худред «Молодой гвардии» Всеволод («Севка») Ильич Бродский вручил мне крупный заказ на сотню иллюстраций. Итальянский автор Итало Кальвино. Я прыгал от радости и решил прокатиться в Питер, где никогда еще не был. Сопровождал меня писатель Аниканыч (В. И. Аниканов).
Конечно, я читал фельетоны Мих. Зощенко и знал, что в Ленинграде есть трамвай, люди теряют галоши и воры таскают кошельки, но ведь я был художник, и знаменитый город воображал с птичьего полета — город строгих, панорамных гравюр фон Захгейма и Василия Садовникова, Петербург фешенебельных фасадов, а не грязных дворов.
…«Медный всадник» А. С. Пушкина… Эрмитаж… Шпиц Петропавловской колокольни… державная Нева!..
Наш могучий «ТУ-114» спустился во тьму. Горели фонари и тяжелое, как свинец небо нависло над крышами Ленинграда.
В «Справочнике для туриста» писали: «В Ленинграде трудится большая армия ученых, писателей, артистов, художников».
Осмотреть всю «армию» я не мог, но о встрече с друзьями и однокашниками договорился заранее.
«Здесь жил и работал Ильич» и «шалаш» в Разливе сразу отметались вместе с культпоходом на крейсер «Аврора», выкрашенный в зеленый цвет и стоящий у нашей гостиницы.
К сокровищам Эрмитажа мы шли пешком по сугробам, и города моего воображения я не узнавал. Летний сад с черными стволами деревьев и гробами статуй был неприветлив и пуст. У Зимнего дворца маршировали солдаты. Такого обилия солдат и матросов я нигде не видел. В толпе каждый пятый был в погонах. По громадным колонам Казанского собора дул ледяной ветер. Возвышалась пара фельдмаршалов с палками в руках.
А. С. Пушкин («Сашка», «сверчок», «егоза», «солнышко») не отличал меди от бронзы.
Памятник благодетелю страны Петру 1 был совершенно черный, с шапкой снега на бронзовой, а не медной голове.
«Конь в успехе господина».
(А говорят, голову Петра сделала ученица ваятеля Этьена Фальконе, двадцатилетняя Мария Калло, за что получила от Екатерины пожизненную пенсию в 10 тысяч ливров и звание академика.)
У величайшего шедевра Харменса ван Рейна Рембрандта «Возвращение блудного сына», купленного в Париже в 1766-м послом, князем Д. А. Голицыным, за 5400 ливров для царского «Эрмитажа», я стоял как пораженный грозой. Я валился от усталости, как блудный сын в картине голландца, но возвращаться к этим бородатым старикам мне не хотелось.
Иконы Русского музея не уступали по качеству Третьяковке, и совершенный по колориту и пластике «Борис и Глеб» новгородской работы XIV века, кажется, был уникален.
С Васей Полевым мы не виделись пять лет и встретились в кафе «Чайка» (канал А. С. Грибоедова, 14), где собирались все питерские фарцовщики высокого полета. В кафе пили коньяк и заказы вал и настоящие обеды с отличной солянкой и цыплятами. Вася оценил мои иллюстративные опыты и поздравил с успехом. Он грузил дрова в гавани, чтоб прокормить свою живопись, а я зарабатываю деньги профессией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: