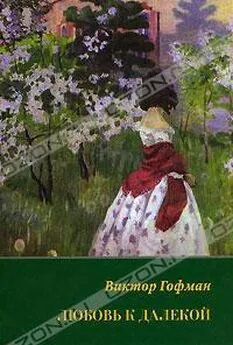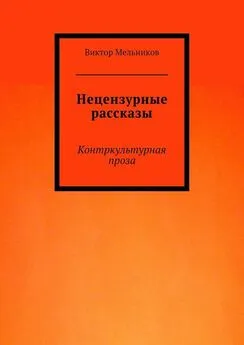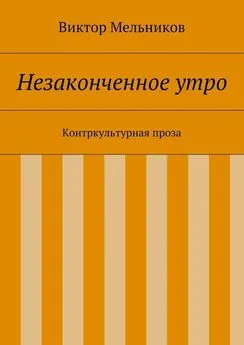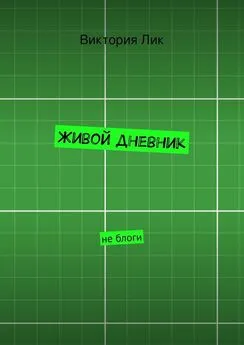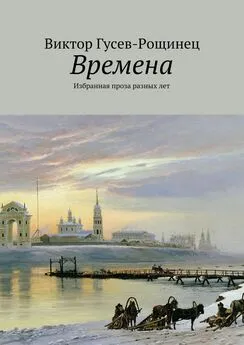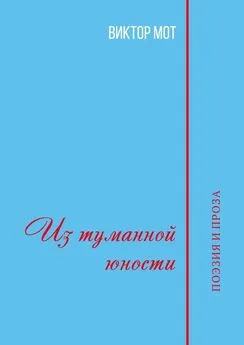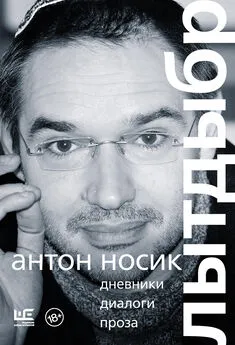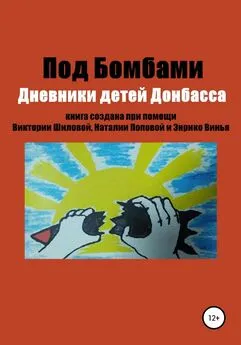Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]
- Название:Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-120168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] краткое содержание
Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.
Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.
В издание включены фотографии из семейного архива.
Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неудивительно, что от готовой картины управа Больших Мытищ отказалась. Караваджо, с которым на заре его римской карьеры подобные обломы случались регулярно, в таких случаях брал кисть и переписывал. У Перова такой нужды не было: он просто продал картину Третьякову и уехал работать в Европу, не дожидаясь, покуда Священный синод упечёт его на Соловки за антиклерикальную сатиру. Отдуваться пришлось коллекционеру, которому власти запретили возить картины Перова по России и отдавать их на сторонние выставки. Но Третьяков как-то пережил этот удар, выставив “Чаепитие” в своей галерее, где его поныне можно видеть в 17-м зале. А Перов, поработав пару лет на стипендии в Европе, вернулся в Россию, где учредил движение передвижников, получил кучу наград, стал профессором Академии и живым классиком.
В петербургской Академии художеств (точней сказать, в бесконечных анфиладах её отдела слепков) завершилась выставка Павла Пепперштейна “Охотники за мраморными головами (археология будущего)”.
Акварели из футурологического пепперштейновского цикла, развешанные в полутёмных залах, среди копий античных и ренессансных скульптур, смотрелись то дерзко и непочтительно, то нежно и трепетно – в зависимости от соседства и ракурса.
И в то же время, в 29 -м зале главного здания Пушкинского музея, среди московских копий практически тех же самых фигур Микеланджело, открылась камерная выставка из восьми картин Виктора Пивоварова “Потерянные ключи”. Случилось то, о чём в своей автобиографии “Влюблённый агент” сам он писал как о неосуществимой мечте московского художника: “Несбыточная заоблачная фантазия – выставка в Пушкинском музее. Величественная лестница в Пушкинском музее – это лестница на Олимп, к бессмертию, к богам. Там на втором этаже, в залах искусства Древней Греции, и действительно живут боги”.
В отличие от пепперштейновской “археологии будущего”, картины его отца ни на какую смысловую и стилистическую перекличку с окружающими их копиями из флорентийских Capelle Medicee не претендуют. Пивоваров – вообще не про скульптуру, даром что пять лет обучался ей в училище. Просто в 29 -м зале Пушкинского музея, между слепками надгробий Микеланджело, нашлось достаточно свободного места, чтобы поставить стенд длиной во весь зал и развесить восемь больших картин. Перекликаться они должны с большой ретроспективой семейства Кранахов, где выставили разом и Лукаса Старшего, и Младшего, и Третьего, и всю их сто с лишним лет просуществовавшую bottega из европейских собраний. [158] Мастерская. ( итал .)
Действительно, картины Пивоварова перекликаются с Кранахами в полный рост. Трудно назвать другого московского художника любой эпохи, которому было бы до такой степени органично и естественно беседовать со зрителем на языке европейского кватроченто-чинквеченто, как Пивоварову. Он там никому не подражает, не копирует и даже не цитирует: в его представлении, цитировать можно то, что умерло, а это искусство – живо (тут важно понимать, что будущий чех Пивоваров соотносился с Босхом за 20 лет до того, как бывший словак Уорхол взялся деконструировать боттичелиеву Венеру). Он не пытается разъять музыку Высокого Возрождения как труп: он просто живёт всю свою жизнь в той эстетике, как рыба в воде, для него это совершенно живой и актуальный язык.
Печальное возвращение
Один из основоположников и видных теоретиков современного концептуализма, американский художник Джо(зеф) Кошут – рыжий, вечно небритый толстяк в очках типа “леннон”, всегда с неописуемым пестрым шарфом вдоль тела и волоокой надцатилетней подругой модели WASP, проснулся однажды с ощущением, что жизнь кончена. То есть не физическая, конечно, жизнь – та продолжалась. Шарф на вешалке, очки на стуле, подруга рядом, и всё тот же индустриальный пейзаж за окном. А вот культурная жизнь, связанная со статусом и институтами “вольного” концептуализма, подошла к логическому своему завершению. Уже не создаст Кошут ничего такого непристойного, чтобы коммерческих галерейщиков стошнило прямо на “художественный объект”, чтобы поморщились видавшие виды музейные кураторы и врассыпную разбежалась толстозадая публика, потребляющая искусство. Уже не испугаются арт-критики, и даже всей Америке известный интеллектуал-гомосексуалист, ведущий художественное обозрение по 13-му каналу телевидения, не вздёрнет изумлённо накрашенные брови. Что ни создай – все скажут: “Это работа Кошута”, почтительно поцокают языками и купят за страшные деньги. Восстав против истеблишмента, американский концептуализм сделался по прошествии времени частью этого самого истеблишмента.
Ничего нового в этом нет, классическая диалектика развития. Тем же путём прошли и мастера Возрождения, восставшие против тотальной окружающей готики, и русские передвижники, и автор “Явления Христа народу”, закончивший дни свои в безвестности и нищете, с позором изгнанный из Академии художеств за “отказ от традиций”, чтобы впоследствии набить оскомину нескольким поколениям посетителей Третьяковки как часть этой же самой традиции… Реалисты, сюрреалисты, импрессионисты, экспрессионисты, пуантилисты, примитивисты, супрематисты, дадаисты – все начинали свой путь как изгои, отщепенцы и разрушители традиции, чтобы закончить его в почётной окаменелости “столпов” и “отцов-основателей”. Почему-то Джо(зеф) Кошут думал, что с ним и его искусством всё будет иначе. Как выше сказано, он ошибался – и в признание своей ошибки опубликовал в журнале “Flash Art” покаянную статью с мудрёным названием “История для”. В этой статье Кошут пытался потрясти и разжалобить читателя, рассказывая ему о том, как всеядный американский истеблишмент поглотил бунтарей в лице концептуалиста Джо(зефа) и его товарищей – английской группы “Art & Language”, скульпторов-минималистов, Ханса Хааке, и ещё была там дюжина приятных авангардному уху нерусских имен.
В конце статьи Джо(зеф) обещал вернуться – кратко, но жёстко, как Рэмбо в конце каждой очередной серии: мы ещё придём, мы будем такие мерзкие, что вы нас сразу перестанете считать классиками!
Угроза вдохновила многих западных критиков. Каждого экс-бунтаря от концептуализма стали в конце интервью спрашивать: “А вернётесь? А правда, что вы будете круче всех?” Одни художники отвечали, что да, непременно, вы о нас ещё услышите, мы ещё придём плюнуть на ваши могилы. Другие загадочно молчали, пугая аудиторию (“Может, они уже вернулись, а мы не заметили?!”). Третьи, познав разочарование и уныние, причиняемые всякому художнику славой и богатством, грустно махали рукой. “Может, и вернёмся, – сказал уже упомянутый выше Ханс Хааке. – Но наше возвращение будет печальным. Как все возвращения”.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)