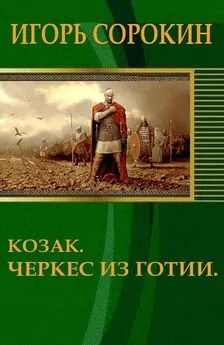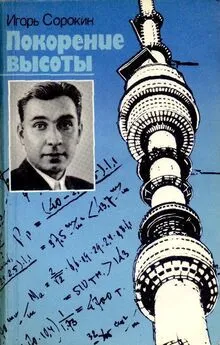Игорь Сорокин - Художник каменных дел
- Название:Художник каменных дел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сорокин - Художник каменных дел краткое содержание
О сложной судьбе выдающейся личности, о трудных поисках и счастливых находках рассказывает эта книга. Повествование доведено до 1930 г.
Адресована широкому кругу читателей.
Художник каменных дел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Везде, где только преподается архитектура, — писал в то время профессор Б. Н. Николаев, — те неуклюжие и неприменимые к жизни каноны, которые были созданы 400 лет тому назад, считаются непогрешимыми и до сего времени. Очень естественно, что молодежь... становясь лицом к лицу с требованиями жизни, создает вещи сырые и несовершенные... Жизнь и ее требования и логика как бы не существуют для преподавания художественной архитектуры».
Реформу Академии художеств начали не архитекторы, а живописцы — Шишкин, Куинджи, Киселев и другие во главе с Репиным. Проект нового устава предусматривал прежде всего качественно изменить состав профессуры, призвать в академию новые силы, учредить мастерские, в которых студенты старших курсов, пользуясь свободой выбора тем, будут искать новые пути в творчестве. Положение устава об отмене заданных тем вызвало бурное сопротивление старых профессоров, и лишь настойчивость Конференц-секретаря академии И. И. Толстого помогла реформаторам отстоять его.
Прежде молодые художники обязаны были изображать в своих дипломных работах никогда не виданных лиц, нежизненные ситуации. В ходу были такие, например, темы, как «Явление трех ангелов Аврааму» или «Харон перевозит души усопших через Стикс». Теперь студенты получили право выбирать тему самостоятельно.
В архитектурном классе появились энергичный ясноглазый Леонтий Николаевич Бенуа и совсем уж молодой профессор Григорий Иванович Котов, назначенный руководителем курса, где учился Алексей Щусев.
Внешне, казалось бы, все осталось по-прежнему: те же помещения, тот же строгий порядок посещения, та же проверка заданий, те же экзамены. Но атмосфера стала совершенно иной. Даже стены старинного здания академии сделались по-новому привлекательными, приветливыми.
Непривычно располагающим, заинтересованным было отношение профессоров нового призыва к питомцам. Новые наставники пришли оттуда, где пульсировала живая мысль, они не умели и не хотели глядеть на студентов свысока, в чем поднаторели «олимпийцы», целым отрядом ушедшие на покой, доживать свой век в оставленных за ними академических квартирах.
Разъединенные прежде студенты — скульпторы, живописцы, архитекторы — вдруг почувствовали тягу к единению, к братству. Студенты старших курсов будто позабыли о своем превосходстве над младшими и даже гордились, если удавалось снискать их любовь и признательность.
Особым расположением пользовался старшекурсник Иван Жолтовский, великолепный знаток архитектурных ордеров и деталей. Его знаний прежние профессора даже побаивались, так как он владел их оружием не хуже, чем многие из них. В его объяснениях были стройность и красота.
Беседы с Жолтовским были для Щусева и его сверстников тем же, чем для музыкантов уроки сольфеджио. То, что прежде представлялось как самоцель, выступало в подлинном свете — настойчивое изучение деталей, пропорций воспринималось как путь к художественно целостной архитектурной композиции.
Когда язык архитектурной классики становится ясен до мелочей, в памяти встает наиболее ценное из наследия прошлого. Лишь тогда начинает вырабатываться чувство гармонии пропорций, изысканности линий. Иначе невозможно уяснить суть того или иного архитектурного ансамбля, связь его отдельных частей, значение каждой детали и общей идеи сооружения.
Взаимопроникновение разных художественных сфер имело огромное значение для развития искусства в целом. Особенно благотворным оказалось влияние живописи на скульптуру и архитектуру. Студенты наслаждались свежим дыханием перемен и, окрыленные страстной верой в будущее, готовили себя к нему.
Захваченный могучим талантом Репина, Алексей написал прошение о допущении его, Щусева, к занятиям живописью и, получив разрешение, попросился в репинский класс. Человек, на которого Алексей взирал, как на божество, стал его учителем. Но Щусеву он уделял совсем немного внимания, не понимая, как можно совмещать с чем-то живопись. Из своего многочисленного класса Илья Ефимович выделял Малявина, Рылова, Кардовского и Рериха, который был лишь на год младше Алексея. На возраст Репин не глядел, его интересовал только талант.
Алексей почему-то упорно верил в свою исключительность. Работал он настойчиво, упорно, однако, сверяя свои рисунки, к примеру, с малявинскими, находил, что ему никак не удается то самое «чуть-чуть», которое не имеет названия, но которое и есть искусство.
Он был раскован, общителен, весел, первым смеялся над своими неудачами и, казалось, не умел быть завистливым. Чужими работами он восторгался искренне, от всего сердца, все пытаясь понять, где же ключ к той тайне, которая делит мир надвое — на вечное и тленное, настоящее и вторичное. Обладая сердцем художника, он так по-детски радовался, если кому-то из его новых друзей удавалось хотя бы прикоснуться к настоящему, что готов был забыть себя.
Ученики Репина, в отличие от своего патрона, с большой охотой помогали Алексею. Кардовский даже советовал ему подумать о переходе на отделение живописи.
— Лишь когда за вашей спиной сгорят все корабли, вы узнаете, художник вы или нет, — говорил он.
В смелости Алексею было не отказать, но разом отбросить три академических года на архитектурном отделении казалось ему неразумным, тем более что официального предложения от профессора Репина о переводе он не получал. Но слишком уж притягательной была сама мысль. Она все сильнее стучалась в сердце, не давала ему покоя и наконец полностью овладела им. К этому времени Щусев сблизился с Николаем Рерихом и поведал ему о своих планах.
Вскоре было объявлено, что в академии состоится первая послереформенная выставка студенческих работ, в которой могут принять участие все желающие. Щусев решил, что это его шанс, и стал готовиться к выставке. Каждую свою работу он детально обсуждал с Рерихом, бракуя одну за другой.
Однажды в натурном классе Алексей вроде бы случайно сделал удачный рисунок с обнаженной натуры. Друзьям показалось, что это именно то, что нужно. Рисунок вправили в простенькую рамку и отнесли в конкурсную комиссию. С этим рисунком Щусев теперь связывал свои надежды, и, как оказалось, не напрасно — работа была включена в экспозицию. Осталось последнее, чего все ждали с особенным нетерпением: выставку будет оценивать сам Илья Ефимович Репин.
Настороженной притихшей кучкой двигались студенты за своим метром, ловя каждую перемену в его лице, каждый его кивок, каждое слово.
Вот он подошел к щусевскому рисунку, остановился, пристально посмотрел и весело сказал:
— Сразу видно, что рисовал архитектор! Как хорошо построена фигура! — И пошел дальше, бормоча на ходу: — Впору живописцам поучиться...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
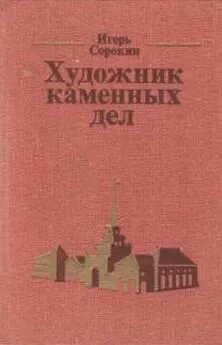
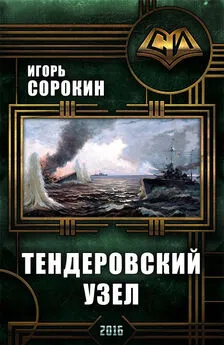
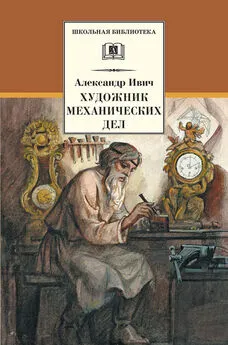
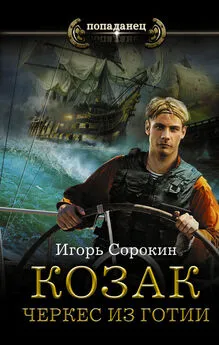
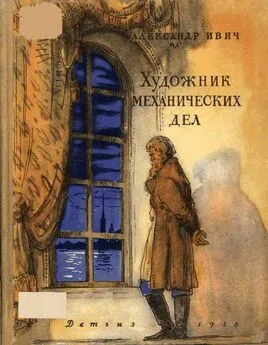
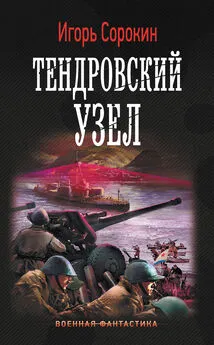
![Игорь Сорокин - Козак. Черкес из Готии [СИ,с издат.обложкой]](/books/1101254/igor-sorokin-kozak-cherkes-iz-gotii-si-s-izdat-o.webp)