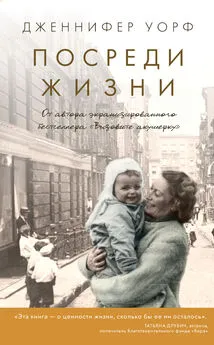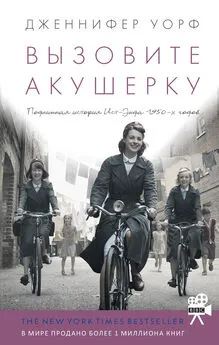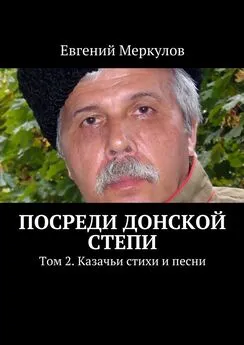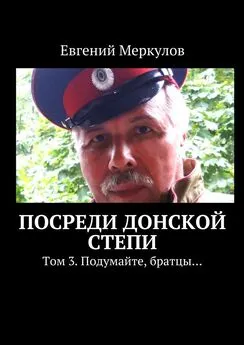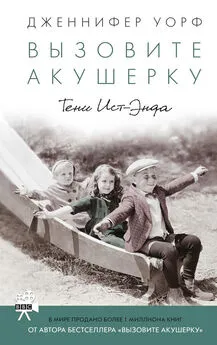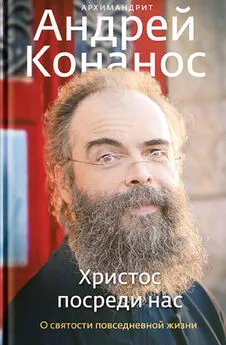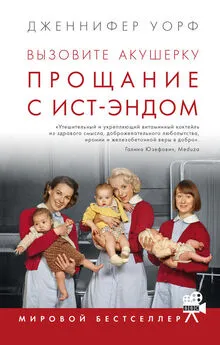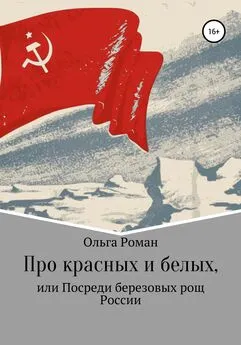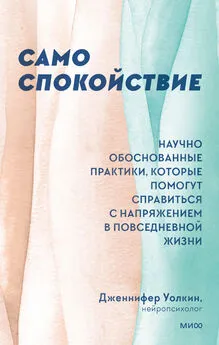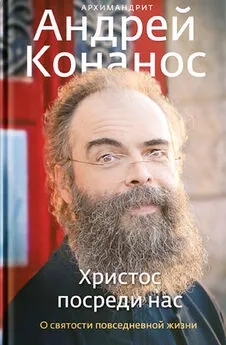Дженнифер Уорф - Посреди жизни
- Название:Посреди жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Лайвбук
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907056-72-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дженнифер Уорф - Посреди жизни краткое содержание
«Посреди жизни» – воспоминания Уорф о работе с пациентами, чье время неумолимо подходит к концу. Это невероятные по силе эмоций, полные любви, сострадания и жажды жизни истории о самой Дженнифер, о людях, за которыми она ухаживала, и об их близких. Многолетний опыт и точные наблюдения Уорф – ценный источник знаний о медицине того времени и удивительная возможность задуматься о самом важном в своей жизни и жизни близких людей. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Посреди жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Седьмого мая 1945 года звенели все колокола всех европейских церквей. Люди веселились, пели, танцевали, праздновали прямо на улицах. Война закончилась. Она длилась шесть лет, но сколько лет теперь потребуется, чтобы все восстановить? Элизабет сразу же присоединилась к Международной добровольческой службе во имя мира и четыре года проработала с медиками в зонах самых страшных разрушений. Команде медиков было поручено отправиться в Польшу, чтобы организовать там пункт первой помощи, Элизабет поехала с ними – и отправилась в Майданек, лагерь смерти, где 300 тысяч людей не так давно были убиты в газовых камерах. Она своими глазами видела кучи детской обуви и одежды, видела сундуки с человеческими волосами, которые предназначались для отправки в Германию, чтобы набивать ими подушки. Она вдыхала сладковатый запах газовых камер, запах смерти и всепроникающее зловоние гниющих трупов. Она видела колючую проволоку, сторожевые вышки, прожекторы и ряды бараков, в которых мужчины, женщины и дети проводили свои последние дни, ожидая приказа раздеться и выстроиться в очередь на вход в газовую камеру – так выполнялась дневная норма уничтожения. Она бродила вокруг, оцепенев от ужаса, как вдруг с удивлением заметила, что на каждой стене каждого барака были нарисованы сотни бабочек. Господи, что за сила движет людьми, которые ожидают неминуемой смерти в этом аду и все-таки рисуют бабочек? Она не знала ответа – никто из нас никогда не узнает. Но вид этих бабочек остался в ее памяти на всю жизнь. Именно этот образ, это символическое послание, оставленное обреченными людьми, в конечном счете привело ее к вере в Бога Любви.
Только после четырех лет волонтерской работы Элизабет вернулась в Швейцарию, полная еще большей решимости стать доктором. Но ей нужно было получать основы знаний буквально с нуля, так что пришлось пойти в вечернюю школу. Ее никто не поддерживал, ни отец, ни преподаватели – они говорили, что женщина может быть домохозяйкой, горничной, портнихой, но вот наука уж точно не для женщин. Однако Элизабет прошла суровую школу жизни и знала цену упорству. Она готова была к трудностям и не отступилась от мечты. В 1957 году она – в тридцать один год – наконец сдала выпускные экзамены и стала сельским врачом – поехала лечить людей в горных деревнях к северу от Цюриха. Это было счастливое время.
Всегда интересно рассуждать о том, как складывается жизнь каждого из нас и какую роль играет случай. Элизабет всегда считала, что ее ведет рука Бога. Если бы она не встретила однажды красивого американского доктора и не влюбилась в него, она осталась бы семейным врачом в швейцарской глуши, ощущала бы полное довольство, вышла бы замуж, наверное, за респектабельного бюргера и была бы рада остепениться после бурных приключений своей юности. Вместо этого она вышла замуж за Эмануэля Росса, уехала в Америку и окунулась в водоворот американской больничной жизни. Именно здесь началась настоящая жизнь ее ума и души, окрашенная ранним опытом страданий. Она нашла свое призвание.
На самом деле Элизабет никогда не хотела жить в Америке и еще меньше хотела стать психиатром-ординатором в государственной больнице Манхэттена. К сожалению, другой работы в Америке в это время для нее не было. Так что она проработала с душевнобольными почти два года и многое узнала о психологии человеческого разума, о его темных глубинах и запертых дверях.
Однажды начальник попросил Элизабет осмотреть человека, который, как все считали, страдал психогенным параличом и депрессией. Кроме того, у него было неизлечимое дегенеративное расстройство. Элизабет осмотрела пациента и долго с ним говорила. Она уже раньше видела такое состояние духа во время своей добровольческой работы в разрушенных городах и деревнях Европы и знала, что́ оно означает.
– Больной готовится к смерти, – сообщила она.
Невролог, присутствовавший при этом, не просто не согласился: он явно смутился и тут же высмеял ее диагноз, сказав, что пациенту просто нужно правильное лекарство – оно, мол, приведет его в чувство. Через несколько дней пациент умер.
После этой встречи Элизабет стала больше задумываться, больше наблюдать и записывать свои наблюдения. Она заметила, что большинство врачей избегает упоминаний о чем-либо, связанном со смертью, и чем ближе пациент к смерти, тем больше врачи отстраняются от него. Она спрашивала коллег, но те избегали прямых ответов, и у нее сложилось впечатление, что очень немногие из них вообще когда-либо были у постели больного в его смертный час. Неявно подразумевался ответ: «Это не по моей части, я оставляю подобные вещи медсестрам». Тогда она расспросила студентов-медиков и выяснила, что их вообще не учили ничему связанному со смертью или с уходом за неизлечимо больными.
Поначалу ей было любопытно, ее даже забавляло желание коллег прятать голову в песок, и она прикидывала, как можно расценить его с точки зрения аналитической психологии. Но потом она задумалась, что́ это означает для пациентов. Ее стали особенно интересовать те из них, кто был неизлечимо болен и подошел к смерти ближе всего. Опыт работы в истерзанной войной Европе позволял ей легко общаться с этими людьми, и она часами сидела рядом с ними. И главное, что она обнаружила, – их горе, вызванное одиночеством и изоляцией. Очень часто больной впервые узнавал о серьезности своего состояния по изменениям в поведении окружающих: они начинали избегать общения, ответов на вопросы, зрительного контакта. Молчание врачей усиливало страх больных. Родственники и друзья, казалось, тоже были вовлечены в массовую игру «Давай притворимся», тем самым закрывая дверь для сопереживания. Каждый умирающий жаждет любви, прикосновений, понимания, и сердце его рвется от горя, потому что те, чья близость ему нужна, удаляются от него.
Эти наблюдения противоречили ее деревенскому воспитанию в Швейцарии, где к умирающим относились с любовью и состраданием. И ей даже показалось, что это какая-то специфика Нью-Йорка. Но в 1962 году семья – в которой к этому времени уже было двое детей – переехала в Денвер, штат Колорадо, и Элизабет с мужем устроились на работу в университетскую клинику. Она потихоньку продолжала свои наблюдения и, к своему удивлению, обнаружила, что отношение медиков и окружающих к умирающим больным в Колорадо было ничуть не лучше, чем в Нью-Йорке. Похоже, по всей Америке тема смерти считалась нежелательной.
– Это болезнь всей нации, и она куда серьезнее всего, что я видела в палатах для шизофреников, – говорила Элизабет.
Ее новая работа в Денвере оказалась на стыке психиатрии и общей медицины. Команду возглавлял профессор, которого особенно интересовала взаимосвязь между умственной, эмоциональной и духовной жизнью и соматической патологией. Элизабет и профессор были на одной волне, и с ним она могла обсуждать, как отвержение и отсутствие общения действуют на больных, находящихся при смерти. Он был первым врачом, с которым она поделилась своими опасениями, и, к счастью, он ее понял и одобрил ее поиски.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: