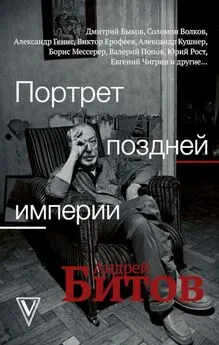Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов
- Название:Портрет поздней империи. Андрей Битов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119370-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов краткое содержание
О том, что же такое была «эпоха Битова» и что за величина сам писатель, ставший классиком русской литературы, рассказывают в этой книге прозаики, поэты, журналисты, кинорежиссеры, актеры театра и кино. Среди них Дмитрий Быков, Соломон Волков, Александр Генис, Александр Кушнер, Сергей Соловьев, Вадим Абдрашитов, Юрий Беляев и многие другие.
Предисловие В. Попова
Портрет поздней империи. Андрей Битов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ошеломительным, вызвавшим гул зала, был главный итог. «То, что рухнул Советский Союз, — большая трагедия. В итоге — Европа становится советской, и США становятся советским государством, и они разбираются между собой — Россия же перестает быть советской». Логические ходы в тексте Битова сложны и порой понятны лишь ему. Но — вызывают, где бы он ни выступал, священный трепет у публики, как бы прикоснувшейся к бездне. Возможно, иногда он и сам себя изумлял, но держался при этом сурово, возражений не допускал. Он грубо одергивал пытавшихся выступать «вместе с ним», а почти забытому всеми Ги Меттану прямо сказал: «Наверное, вам пора на следующее заседание? Я не политкорректен, я — свободный человек, никогда не зависел ни от кого, кроме своей мамы».
Когда голос подал Ги Меттан, возражая Битову, русскоязычные парижане ему закричали: «Мы не вас слушать пришли!»
Полный разгром противника! Но Андрей не унимался, наносил удары по уходящим из зала: «Я еще только начал говорить, но вы можете идти к черту!»… Самым «пиковым» было его высказывание: «Никто не заставляет меня любить Путина, и не заставит. Но он хотя бы работает — в отличие от всех других! В том числе работает и над собой…» Некоторые тут же встали и вышли из зала, но большинство слушателей остались, и, что удивительно, шумно зааплодировали. Надо отметить, что большинство зала составляли наши соотечественники, давно живущие во Франции, но почувствовавшие вдруг себя сторонниками битовских идей. Андрей, как всегда, «вынул душу» у слушающих и сделал с ней что хотел. Он уже хрипел, но продолжал говорить… Столь бешеная «растрата себя» сказалась, увы — в аэропорту на обратном пути Андрей потерял сознание, и неискусные санитары, появившиеся в медицине благодаря толерантности, выбили ему дыхательной трубкой зубы, после чего он оказался в случайной больнице, и его долго не могли найти… Он всю жизнь прожил вот так — «на разрыв аорты»!.. любимая его цитата из любимого его поэта. Прощай, Андрей! Ты — незабываем.
2019Ирина Роднянская
Москва
Застигнувший себя
© И. Роднянская
…Только сейчас я поняла, что дебют Битова в свое время прозевала; его книжка «Большой шар» в 1963 году не попала мне в руки. И только в 1968-м моя близкая приятельница-однокашница Анна Фрумкина (впоследствии не раз выступавшая в печати по другим поводам) передала мне, видимо, купленную ею книгу рассказов «Аптекарский остров» с многозначительным возгласом: «Смотри!» Да, там уже были сплошные шедевры: «Большой шар», «Бабушкина пиала», «Дверь», послужившая началом романа-пунктира о Монахове, и, главное, дивный рассказ, давший название сборнику и впоследствии издававшийся под титлом «Но-га». Тогда, в той обстановке, мне было важно и то, что передо мной оказался не советский (в духе шестидесятничества), не антисоветский, а совершенно внесоветский писатель. Я не сразу осознала это разительное впечатление; помог умница-«маргинал» Сергей Чудаков, заметивший мне, что у Битова социальные роли вторичны по сравнению с оголенно-экзистенциальными: мальчик, женщина, отец, сын и т. п. Сегодняшним поколениям не понять уже, как это было ново и дерзко, пуще всякого диссидентства.
С тех пор я «запала» на писателя Битова и, в роли литературного критика, кажется, не пропускала случая отозваться на каждую его творческую инициативу. Он стал моим главным «поколенческим» автором, по которому я сверяла часы собственного умонастроения. (Сейчас определенно уверилась, что Битов — крупнейший и важнейший новый прозаик второй полвины минувшего века.) Роман «Пушкинский дом», который стал для меня, должно быть, тем же, чем для сомышленников Лермонтова «Герой нашего времени», я прочитала еще в «самиздате» и в первой большой статье об Андрее вынуждена была давать аттестации его персонажам, утаивая, откуда они вообще взялись. (Это было еще до гонений на писателя за участие в «Метрополе», помянутых им в «Ожидании обезьян». В разгар этих гонений, помнится, у меня сняли даже невинную статейку в журнале «Детская литература» с его запретным именем.) Ну и времечко! Между тем я люблю это время — время семидесятников , внутренне совершенно свободных от смягченных реликтов официальной идеологии, — время Маканина, Чухонцева, Кушнера и, понятно, Битова; Аверинцева, наконец, — время, с которым я стараюсь себя отождествить.
Андрей Битов, предполагаю, относился с неким одобрением к тому, что я писала о нем и как его прозу понимала. Иначе он не попросил бы меня срочно сладить послесловие к своему довольно позднему собранию повестей «Обоснованная ревность», что в жуткой спешке и было исполнено. Иначе не предложил бы присудить мне Новую Пушкинскую премию (о чем догадываюсь, хотя мне неведомы тайны совещательной комнаты жюри). Иначе не пригласил бы в 2007 году на свой юбилей в Питер. (Боже, какое было счастье — с гостями из Армении и Грузии, с общим выражением искреннейшей любви к юбиляру, прежде всего — самих питерцев, гордящихся таким земляком и понимающим его масштаб, — с праздничным фейерверком в финале!) Однако личное наше знакомство (я даже не помню, кто и когда ему способствовал) было не слишком близким и весьма пунктирным.
К сожалению, я не оставила никаких записей о двух сценках, когда Битов, недолгое время живя по соседству, побывал у меня дома, — а сценки были забавные: с моей приставучей кошкой, избравшей его объектом своих ласк, со случайной молодой гостьей из Рязани, пресерьезно гадавшей ему по руке. Но в кратких телефонных беседах и в его выступлениях по телеящику я прислушивалась к каждому его слову, потому что его мысль была почти всегда совершенно самобытна и вместе с тем совершенно точна — редкостное сочетание… Ирина Сурат замечательно рассказала, как Битов непрерывно думал. У него был поистине философский ум. Ибо философ — это тот, кто из удивления перед Бытием задает ему фундаментальные вопросы (так, по крайней мере, считали в античности).
Когда я, прочитав «Человека в пейзаже» (вошедшего потом в особо ценимую автором трилогию «Оглашенные»), сказала ему, что его мысли удивительно совпадают с важнейшей и блистательной статьей Владимира Соловьева «Красота в природе», он, даже с некоторым раздражением, ответил, что ничего подобного не читал и читать не станет, потому что к трактатообразным текстам невосприимчив. А между тем он — стихийный, но неуклонный последователь Платона (определяющее имя для русской мысли), потому что каждое свое впечатление оценивающе сверяет с подлинником (его слово!), врожденно хранимым в его сознании и воображении, — не с чем иным, как с платоновскими эйдосами-идеями. И это многократно артикулируемый мотив в его прозе, в том числе сюжетной. Он ставит мучивший Дж. Беркли философский вопрос о солипсизме и путях его преодоления, когда сокрушается насчет невозможности изнутри познать инотелесное (опять-таки его слово) человеческое существо, того, кто «не-я» (еще один сквозной мотив Битова-писателя). Он демонстрирует ограниченность позитивизма в аналитическом изображении доктора Давина (не Дарвина ли?) и психодраму его отношений со «свалившимся с Луны» ангелическим Гумми, обладателем истинного зрения (рассказ «О — цифра или буква?» из «Преподавателя симметрии»). А в совокупности новелл «Преподавателя…» Битов завещал нам полногласный образец философского романа, — много ли их в нашей литературе со времен Владимира Одоевского? — романа, только еще разгадываемого (см. послесловие И. Сурат к этой прощальной книге). Напоследок — быть может, главное. Да, я мало знала Андрея Битова лично. Но я хорошо знаю его в лицо, как всякий его преданный читатель. Потому что его тексты любого жанра — это «полная открытость» (сам так сказал), которая, оставляя в некой тени эмпирическую биографию автора как частного человека, делает ясно видимой его душу; она-то просматривается до самой завязи, со всеми ее озарениями и нескрываемыми срывами, осчастливленная вдохновением и обремененная заплечным «узелком грехов», скорбно уносимым в посмертие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: