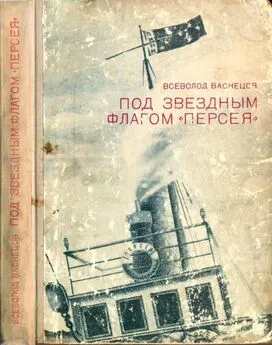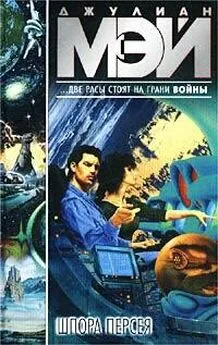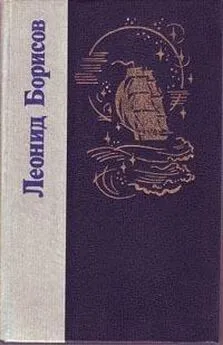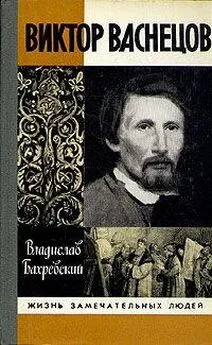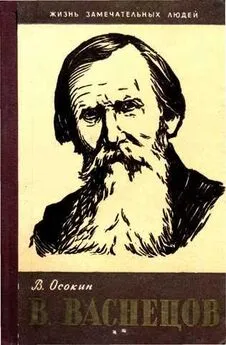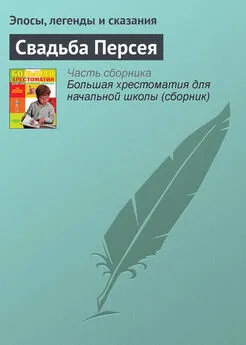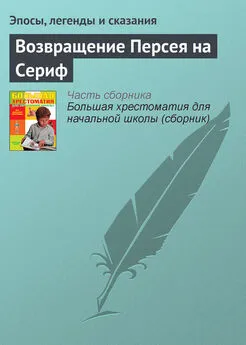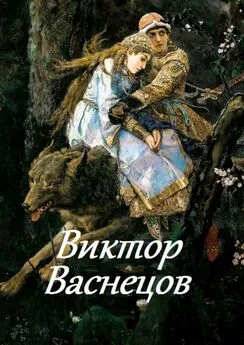Всеволод Васнецов - Под звездным флагом Персея
- Название:Под звездным флагом Персея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ
- Год:1974
- Город:Л.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всеволод Васнецов - Под звездным флагом Персея краткое содержание
Литература об Арктике почти не сохранила следов о том далеком и трудном времени. Книга восполняет этот пробел. Она иллюстрирована многочисленными фотографиями, сделанными автором, а также репродукциями с картин новоземельского художника Тыко Вылка и участников экспедиций В. М. Голицына и В. А. Ватагина, никогда не публиковавшимися ранее.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей.»
В разделах «Примечания редактора» и «Краткие биографические справки» приводятся комментарии к отдельным страницам книги и биографические сведения об отдельных лицах, упомянутых в книге — V_E.
Под звездным флагом Персея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начальник руководит работой экспедиции, но за безопасность плавания, за корабль и судьбу экипажа полную ответственность несет капитан.
Воспользуемся стоянкой и познакомимся с ним.
Капитаном «Персея» в первом плавании был Павел Ильич Бурков, уроженец острова Мудьюгского, где все жители Бурковы, Седуновы или Копытовы. Павел Ильич невысокого роста, худощав, крепко сложен. На обветренном смугловатом его лице выделяются рыжие усики и светло-голубые глаза. Настоящий писатель назвал бы их стальными. Плавал он с детства, и много. Взгляды на жизнь у него устоявшиеся, свои собственные, не меняющиеся. Характер имеет независимый, твердый и прямой. Капитан он опытный, человек умный, но жестковатый и в обращении иногда резкий. И вот маленькое происшествие раскрыло совсем иные черты его характера.

Однажды глубокой ночью во время стоянки у пристани я проснулся, услышав характерный звук блоков шлюпбалочных талей, затем шлюпка плюхнулась днищем о воду. Что могло случиться и зачем ночью, да еще у причала понадобилось спускать шлюпку? Я быстро оделся и побежал на звук голосов. Узнал я следующее. Капитан вышел на палубу, и послышалось ему мяуканье кошки на корме. Он предположил, что кошка, случайно забравшись на судно, могла проникнуть в камбуз. Но нет, камбуз заперт, а мяуканье где-то совсем рядом, как будто под кормой. Взял переносный фонарь и опустил его к воде. А там, вцепившись в выступающую над водой часть рулевого пера, сидел мокрый котенок и громко орал. Этот «черствый» человек вызвал вахтенных, вместе с ними спустил спасательную шлюпку и стоял теперь в ней, прижимая к груди мокрого и дрожащего котенка, который вцепился когтями в его тужурку.
— Возьми-ко от меня утопленника да отнеси его посушиться, — сказал капитан.
Я перегнулся через борт, протянул вниз руку, и котенок, которого Павел Ильич еле оторвал от себя, так же судорожно вцепился в рукав моего бушлата. Он прижился у меня, а я назвал его Лямишкой, в память о таком же черно-белом котенке из моего далекого детства. Так я узнал, что под суровой капитанской оболочкой запрятано доброе сердце. С Павлом Ильичом у нас на долгие годы установились дружеские отношения. Его сухость и неразговорчивость объяснялись некоторой застенчивостью — раньше он плавал на военных, торговых и зверобойных кораблях и впервые попал на исследовательское судно в среду научных работников. Он еще не нашел общих с ними тем и интересов, и взаимоотношения еще не сложились. Впоследствии он вполне сжился с этой средой. Бурков был прекрасным капитаном.
И еще я хочу сказать, что за все 10 лет моих плаваний на «Персее» это был единственный случай, когда спасательная шлюпка корабля использовалась по своему прямому назначению, т. е. для спасения терпящих бедствие.
Но вернемся снова к моему повествованию.
Позже работать в океане приходилось при сильном ветре и большой волне. С батометрами я справлялся и при одиннадцатибалльном шторме. В этих случаях корабль не ложился в дрейф, как это обычно делается на океанографических станциях, а держался носом на ветер приблизительно на месте.
Ручная (впоследствии электрическая) лебедка Томсона стояла на самой корме, и это обстоятельство позволяло выполнять работы в штормовую погоду. Размах колебаний кормы судна бывал огромным, и нередко случалось, что батометр, опущенный в воду на десятиметровый горизонт, вылетал в воздух и снова с бульканьем нырял в пучину.
Волна за волной выкатывалась из-под кормы, пенящийся гребень вздымался вровень с палубой, а иногда забегал на нее. С вершины волны корма падала в ложбину с такой стремительностью, что даже у привычного человека дух захватывало. Но сделать станцию в одиннадцатибалльный шторм доставляло какое-то удовольствие, должно быть, потому что ощущалась борьба со стихией и победа над ней. Конечно, в такую погоду можно было работать только с батометрами.
Не очень-то легко устоять на штормовом ветру при такой качке, да еще навинчивать батометр на трос, перегнувшись через планшир за борт. А потом, отсчитав температуру по глубоководному термометру, записывать в книжку, брать пробу на соленость и в отдельную скляночку на свободный кислород, тут же на палубе фиксировать пробу, засасывая реактив ртом через маленькую пипетку, да так, чтобы нечаянно не набрать его в рот. И все это на мокрой и ускользающей из-под ног палубе.

Но мне очень повезло в жизни! Моим первым морским воспитателем, научившим меня крепко стоять на ногах, был строгий и требовательный Николай Николаевич Зубов. В прошлом военный моряк, в первую мировую войну — капитан второго ранга и командир быстроходного эскадренного миноносца типа «Новик», потом профессор, доктор географических наук, контр-адмирал и заведующий кафедрой гидрологии моря географического факультета Московского университета им. Ломоносова.
Ему я обязан тем, что стал гидрологом. В первом же совместном плавании он старался передать мне свой опыт исследовательской работы и воспитать настоящего морского гидролога.
Летом шторм обычно непродолжителен. Через сутки ветер стал затихать и мы, покинув малоудобный рейд Трех Островов, направились вдоль берега к мысу Святой Нос.
«Персею» предстояло выполнить разрез по 41-му меридиану, от Мурманского берега на север до кромки льдов, если будет возможно, подойти к Земле Франца-Иосифа, оттуда проделать разрез на мыс Желания и спуститься к югу вдоль Новой Земли.
Одним из первых исследователей Баренцева моря, его гидрологического режима и биологии промысловых районов был известный ученый Николай Михайлович Книпович, работавший на пароходе «Андрей Первозванный» в 1898-1901 годах. Изучая распространение Нордкапской струи Гольфстрима в восточной части Баренцева моря, он выполнял наблюдения по 41-му меридиану. В этот район атлантические воды проникали уже распавшимися под влиянием рельефа дна на отдельные струи, которые получили название «пальцев Книповича».
Распространение промысловых рыб в Баренцевом море связано с распределением теплых атлантических вод. Важно было повторить наблюдения Книповича, проверить постоянство струй, их температуру и сопоставить с данными, полученными в плавании на «Малыгине» в 1921 году. Это и была одна из задач экспедиции.
По сравнению с прежними наша экспедиция была (по программе, разработанной И. И. Месяцевым и Л. А. Зенкевичем) комплексной, т. е. на каждой станции наблюдения вели гидрологи и планктонологи, гидрохимики и зоологи, грунтовики и ихтиологи. Это давало возможность выяснить взаимосвязи между водной средой и обитающими в море живыми организмами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: