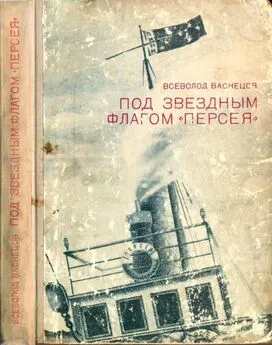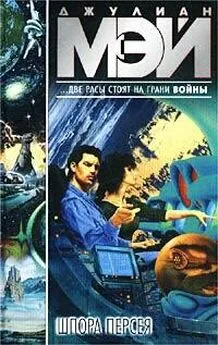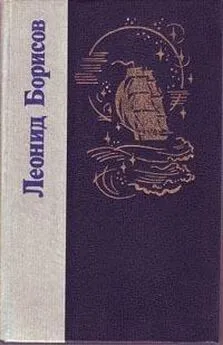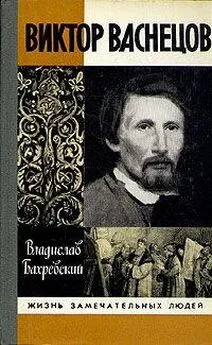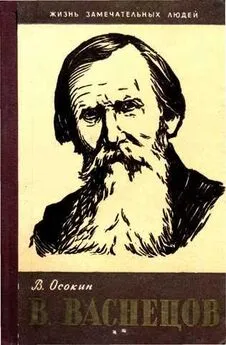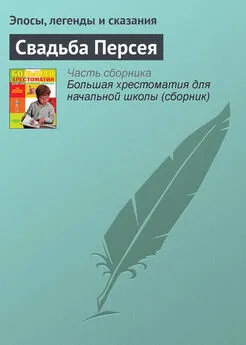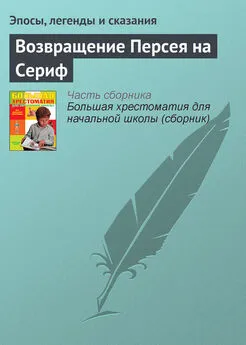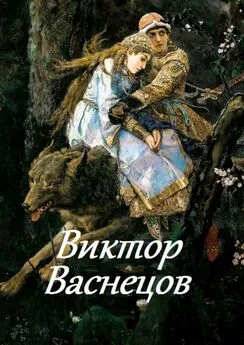Всеволод Васнецов - Под звездным флагом Персея
- Название:Под звездным флагом Персея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ
- Год:1974
- Город:Л.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всеволод Васнецов - Под звездным флагом Персея краткое содержание
Литература об Арктике почти не сохранила следов о том далеком и трудном времени. Книга восполняет этот пробел. Она иллюстрирована многочисленными фотографиями, сделанными автором, а также репродукциями с картин новоземельского художника Тыко Вылка и участников экспедиций В. М. Голицына и В. А. Ватагина, никогда не публиковавшимися ранее.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей.»
В разделах «Примечания редактора» и «Краткие биографические справки» приводятся комментарии к отдельным страницам книги и биографические сведения об отдельных лицах, упомянутых в книге — V_E.
Под звездным флагом Персея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пролив очень живописен, берега от уреза воды круто поднимаются ввысь. Уже от восточного входа в пролив видны высокие горы со снежными вершинами, достигающие 1100-1200 метров. Это группа гор Карпинского, Ольденбурга и др. Южный мыс восточного входа — мыс Дровяной — примечателен тем, что на нем в 1767 году зимовал Розмыслов, первый исследователь Новой Земли. Во время зимовки умерли от цинги его бесстрашные сподвижники — кормщик Чиракин и семь матросов с небольшого их суденышка. Никакого памятного знака здесь тоже нет, а поставить его в честь русских героев, первых исследователей русского Севера, следовало бы.
На северном берегу пролива, недалеко от его восточного устья, виднелись строения и высокие мачты радиостанции Матшар, в те годы самой северной в европейском секторе Советской Арктики.
Мы подошли ближе к берегу и приветствовали зимовщиков протяжным гудком и флагом. В ответ на флагштоке главного здания взвился советский флаг.
Радиостанция Матшар была первой советской зимовкой, которую посетил «Персей» за время своих арктических плаваний. Поэтому все, кто только мог, съехали на берег, чтобы познакомиться с ее устройством, работой и бытом.
В устьевой части ручья Ночуева стоял тогда большой бревенчатый серый дом, хотя и барачной архитектуры, но срубленный очень фундаментально. В нем размещались жилые комнаты, кают-компания и камбуз. Каждый зимовщик имел отдельную комнату, что в условиях зимовки немаловажно. Кроме этого здания, стояло еще несколько служебных строений: электростанция и метеостанция, павильон геомагнитных наблюдений, баня, склад и др.
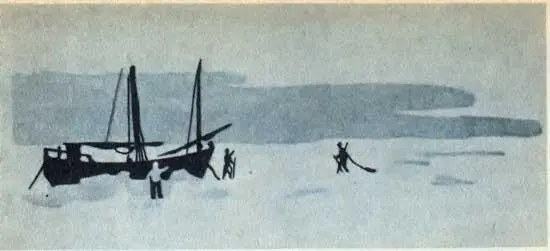
С годовалого возраста живу я в Москве в Фурманном переулке. Когда долго обитаешь на одном месте, часто видишь одних и тех же людей, проживающих поблизости. Хотя ты с ними не знаком, они начинают казаться какими-то своими. Ты замечаешь, что одни вместе с тобой переходят из детского возраста в юношеский, потом становятся взрослыми. Другие неуклонно идут к старости и через некоторое время больше уже не встречаются.
В двадцатые годы я часто встречал в своем районе высокого плотного молодого человека, одетого в далеко не новый матросский бушлат и столь же бывалую фуражку с маленьким медным якорьком. Мы часто перекидывались взглядами, явно выражавшими симпатию.
Одевался я тогда не совсем шаблонно, носил английский бушлат, оставшийся в цейхгаузах антантовских интервентов после их изгнания с Севера. Этими бушлатами снабжался личный состав ледокольного флота, и свой я обрел во время плавания на «Малыгине». Бушлат был шерстяной, толстый, с капюшоном, застегивался на деревянные колки, как палатка, и бросался в глаза своим ярко-канареёчным цветом. Носил я его от осени до весны, ибо другого, более теплого одеяния у меня не было. Да я в нем тогда и не нуждался, никогда не носил даже кашне. Зимой обувался я в «шеклтоны» — высокие ботинки из белого брезента, которые стягивались по голенищу вокруг ноги толстой белой тесьмой. Эта своеобразная обувь тоже досталась в наследство от бежавших английских интервентов. На голове была или фуражка с якорьком, или английская матросская синяя шапочка, вроде берета с наушниками. В довершение во рту зачастую торчала великолепная английская трубка, испускавшая аромат «кепстена». Несколько необычный для тех лет костюм мой привлекал внимание не только высокого и плотного молодого человека, жившего где-то поблизости.
Однажды, это было в 1922 или 1923 году, шел я по Машкову переулку (теперь улица Чаплыгина) и услышал за спиной шаги догоняющего меня человека и несколько басистый голос:
— Вот мы с вами живем где-то поблизости, часто встречаемся, а не знакомы. Давайте познакомимся?
Я обернулся: это был мой знакомый незнакомец.
— С удовольствием с вами познакомлюсь, — ответил я, пожимая протянутую мне руку.
— Судя по вашему виду, вы, несомненно, имеете какое-то отношение и к морю, и к Арктике? — спросил мой новый знакомый.
— Вы не ошиблись, и к морю, и к Арктике я имею самое непосредственное отношение.
— И у вас, должно быть, есть книги об Арктике?
— Ну еще бы, целая небольшая библиотека, — ответил я.
— Ах, как мне нужно с вами поговорить! — воскликнул молодой человек.
— Так заходите ко мне, я живу тут рядом, в Фурменном переулке.
— А я в Машковом, тоже совсем рядом.
Вечером он ко мне пришел. Это был Эрнст Теодорович Кренкель — будущий известный полярник и Герой Советского Союза.
Он стал у меня бывать, мы подружились. Кренкель уже тогда очень интересовался Севером, собирался поехать на полярную зимовку. Я снабжал его литературой об Арктике и советами «старого полярника», хотя сам был еще совсем новичком.
Летом 1927 года, незадолго до ухода «Персея» в Карское море, мы встретились с Кренкелем в яхт-клубе, где я проводил все свободное время. Он собирался отправляться на зимовку на Матшар.
Когда персейская шлюпка подошла к берегу, нас встретил Эрнст Теодорович. Он водил нас по зимовке, показывал хозяйство и рассказал, что бедствием являются страшной силы ветры (новоземельский падун), обрушивающиеся на рацию. В предыдущую зиму такой падун сорвал с жилого дома крышу. Теперь ее укрепили тросами, перекинутыми через конек и закрепленными за «мертвые якоря», вкопанные в землю.
Потом мы с ним сидели в его каюте, как здесь принято называть комнаты, вели задушевную беседу, строили планы на будущее и предавались мечтам. Провожая меня, он шел за отвалившей шлюпкой, махал фуражкой и забрел в воду чуть ли не до пояса. Шлюпка уходила, отдалялся берег, а фигура Кренкеля все еще возвышалась из вод пролива Маточкин Шар.
Снова встретились мы с ним только в Москве.
В западном устье Маточкина Шара, на берегу губы Поморской, закрытой с юга мысом, находилось ненецкое становище Маточкин Шар. Состояло оно из четырех изб, нескольких сарайчиков и маленькой часовенки, нелепо раскрашенной яркими полосами. Сюда, в Поморскую губу, пароходом, шедшим в первый новоземельский рейс, для «Персея» завезли 50 тонн угля. (В те годы во все становища Новой Земли совершались два рейса — летний и осенний. Обычно ходил пароход «Сосновец».)
Расставшись с гостеприимными зимовщиками Матшара, мы пошли в губу Поморскую за своим углем.
Удивительно живописный пролив в этом году был совершенно чист, мы не встретили ни одной льдинки. Стесненный высокими горами, обрывистыми скалистыми мысами, он казался узким коридором. На самом же деле в наиболее тесном месте, примерно около середины, его ширина более полмили. Пожалуй, самое красивое место в проливе там, где он прорезает горы Вильчека, Жданко, Лимана и Лудкова. Здесь имеются небольшие долинные ледники — Третьякова, сползающий с северного берега, и Васнецова на южном берегу. Мы видели эти ледники в стадии отступания — висячими, от воды их отгораживали конечные морены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: