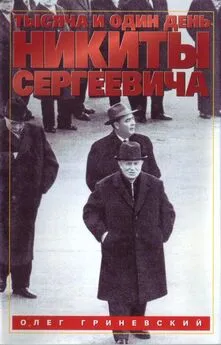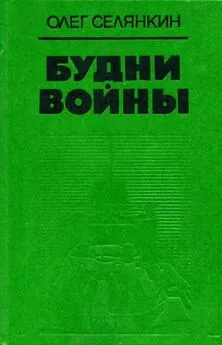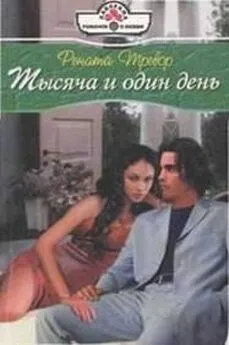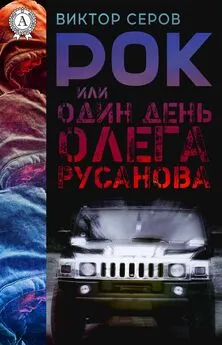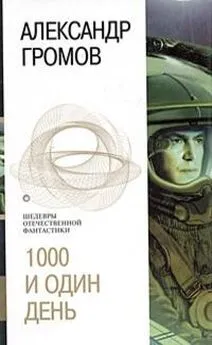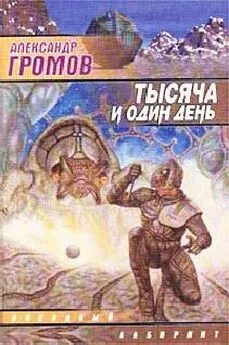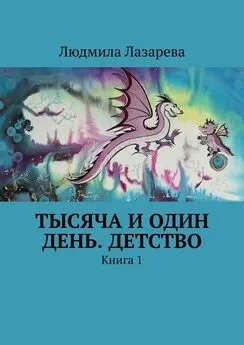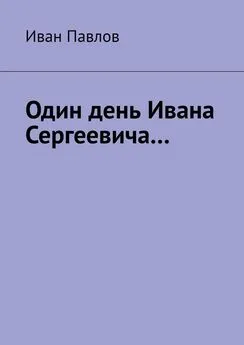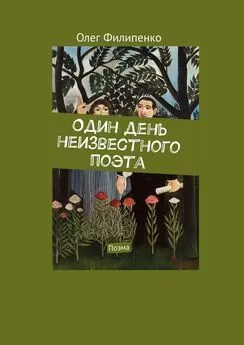Олег Гриневский - Тысяча и один день Никиты Сергеевича
- Название:Тысяча и один день Никиты Сергеевича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:1998
- ISBN:5-7027-0493-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Гриневский - Тысяча и один день Никиты Сергеевича краткое содержание
Роковыми для этих планов оказались 1961 и 1962 годы, когда излишняя подозрительность в отношениях Хрущева с президентом США Эйзенхауэром привела к срыву наметившейся разрядки и к новому витку «холодной войны», а затем и к отставке самого Хрущева.
Об этом и о многом другом, связанном с закулисными сторонами внешней и внутренней политики СССР, — книга видного советского дипломата Олега Гриневского.
Тысяча и один день Никиты Сергеевича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Весна, весна на улице,
Весенние деньки,
Как птицы, заливаются
Трамвайные звонки.
Неожиданно Дженни и Шерри Томпсон ответили песенкой:
— Я люблю водку, я люблю водку —
Пей ее, пей ее, пей!
Вместе с мартини, вместе с мартини!
Пей ее, пей ее, пей!
Пей, пей, выпивай, напивайся!
Пей, пей, выпивай, напивайся!
Наступила тишина. Потом Хрущев расхохотался. Все последовали его примеру.
Долго еще поздней ночью охранники катали санки с детьми по заснеженным дорожкам. В гостевом домике Томпсон делал заметки о событиях прошедшего дня и прятал их в карманы пижамы.
«Зимой 1959–1960 годов Россия выглядела удовлетворенной и счастливой», — писал Александр Верт, один из ведущих американских советологов. Что ж, может быть, так оно и выглядело.
На поверхности действительно бушевала эйфория. Ни одного советского руководителя после Сталина не расхваливали, как Хрущева. На глазах у изумленной публики на обломках культа личности Сталина вырастал новый культик.
Советская печать, радио и телевидение старались переплюнуть друг друга, воспевая успех визита в США. Двенадцать наиболее бойких журналистов и писателей — главный редактор «Известий» и зять Хрущева Аджубей, главный редактор «Правды» Сатюков, заведующий Отделом агитации и пропаганды ЦК Ильичев, поэт Грибачев и другие — быстро соорудили 700 страничную книгу — бестселлер «Лицом к лицу с Америкой».
В кинотеатрах по всей стране показывали два фильма. В одном рассказывалось, как простой мальчишка, сын шахтера, стал одним из самых могущественных лидеров мира. В другом изображалось триумфальное шествие Хрущева по Америке, в котором Эйзенхауэр выглядел как никчемное приложение.
Хрущев видел все это, слышал, и ему это нравилось.
Но так было на поверхности. А в глубине страну терзали серьезные противоречия. Где-то и в чем-то они были отражением борьбы тех двух непримиримых людей — правоверного марксиста и убежденного прагматика, которые существовали внутри самого Хрущева. Перед страной стояли явно не стыкующиеся цели — улучшать отношения с Америкой и в то же время неуклонно проводить ленинский курс на победу социализма во всем мире. Или — радикально сократить вооруженные силы и военные расходы, но так, чтобы не обидеть военных. Укреплять всевластие КПСС, но без сталинских репрессий, расширять демократию, но не меняя советского строя и не ущемляя прерогатив КГБ. Список этот можно продолжить.
И все это не просто теоретические неувязки. Осенью грянул первый гром. В городе Темиртау, в Казахстане, в палаточном городке, где жило около трех тысяч молодых строителей, начались беспорядки. Рабочие выражали недовольство плохими жилищными условиями и низкой заработной платой. На их подавление были брошены войска, и в столкновении погибло несколько десятков человек.
Узнав о трагедии в Темиртау, Хрущев расстроился, но вывод был сделан в чисто хрущевском духе: обещанную на XX съезде демократию вводить пока рано. Сначала надо добиться ощутимого роста народного благосостояния, и только потом можно отпускать вожжи. Иначе можно вызвать неконтролируемый взрыв недовольства.
Но где взять деньги на развитие экономики?
В поисках ответа на этот вопрос поздней осенью — зимой 1959 года за кремлевскими стенами развернулось одно из главных, но не видимых простому глазу сражений. И хотя решалась судьба страны, в нем участвовала лишь узкая группа самых приближенных к Хрущеву лиц. И велось оно чисто в кремлевском стиле: под ковром — так, чтобы никто ничего не узнал и не услышал. Хрущев по одному, максимум по двое, приглашал военных и партийных деятелей и часами не советовался, а наставлял их в своем кремлевском кабинете или, бродя по дорожкам на даче, в Горках Ленинских. Внешне все это напоминало не совещание, а заговор. Да так оно и было.
Хрущев свято верил в силу и могущество советской системы. Она мнилась ему подобием мощного автомобиля: куда повернет руль водитель-партия, туда он и поедет. Скажем, решила партия провести индустриализацию — так какой вопрос, товарищи? Один поворот руля — и в течение пятилетки отсталая аграрная Россия становится мировой индустриальной державой. Так и с коллективизацией сельского хозяйства: повернули руль в другую сторону — и вместо маленьких индивидуальных хозяйств по всей стране появились гигантские колхозы и совхозы.
Над Россией нависла угроза фашистской агрессии. И что же? Сталин разворачивает экономику на создание тяжелой и оборонной промышленности. Это позволило одолеть самого грозного врага за всю историю, когда другие государства, в их числе гордая Франция, упали перед ним на колени. Кончилась война — и новый поворот: все силы брошены на восстановление страны из разрухи. В считанные годы из руин и пепла, буквально на глазах, вновь поднялись города и села, фабрики и заводы.
Вот и теперь надо бросить все средства, все ресурсы на повышение народного благосостояния, на производство товаров народного потребления, как Сталин в свое время бросил все силы и средства на создание оборонной промышленности. Конечно, Хрущев понимал, что просто так ниоткуда деньги и средства не берутся. Даже при чудотворной советской системе. Те же индустриализация и коллективизация были проведены за счет ликвидации мелкого собственника и производителя. А военная промышленность — это многие миллионы человеческих жертв, разрушенных судеб. Как отнесутся к новому повороту руля военные? Готова ли к этому партия и советское руководство? Ведь оборонка, тяжелая промышленность, космос десятилетиями были священными коровами, на которые никому не позволялось поднимать руку.
Первыми, кого начал обрабатывать Хрущев, были военные.
— Времена изменились, — убеждал он. — Не числом солдат с ружьями, а огневой мощью и средствами доставки определяется теперь обороноспособность. Необходимо поэтому укреплять и совершенствовать ракетно-ядерный шит страны. А военная авиация и флот утратили прежнее значение. Их нужно постепенно сокращать и заменять ракетами.
— Можно безболезненно пойти и на значительное сокращение обычных вооруженных сил, — развивал свои мысли Хрущев. — Угроза войны после моей поездки в США значительно снизилась.
Однако результат такой обработки оказался обескураживающим — военные были категорически против, хотя вели себя лояльно и даже подобострастно. В том числе министр обороны Малиновский, на которого Никита Сергеевич возлагал особые надежды. Их контраргументы звучали весомо, как выстрелы из тяжелых орудий.
— Что станется с безопасностью страны в условиях, когда империализм нагнетает напряженность и собирает силы для военного наступления против социализма? Мы не можем сократить армию ни на одного человека, ни на один танк, ни на один бомбардировщик, потому что американцы опережают нас по средствам доставки. А угрозу нападения можно ожидать со всех сторон — ведь они окружили нас своими базами. Фактически мы одни — даже на социалистические страны положиться не можем. Какие они союзники? Весь соцлагерь развалится, как только уйдут наши войска!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: