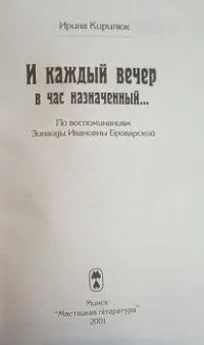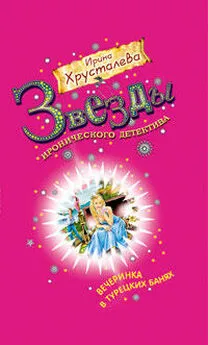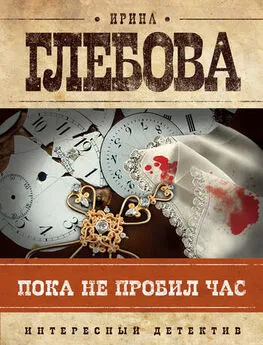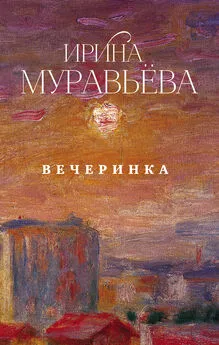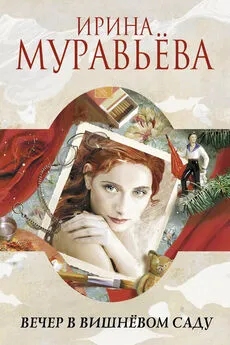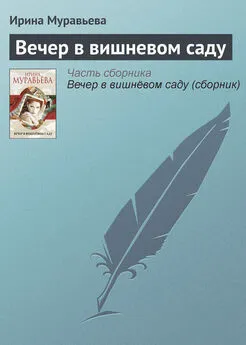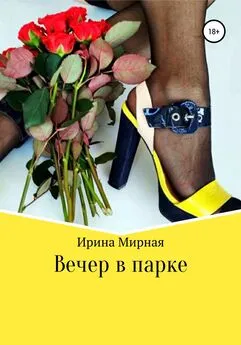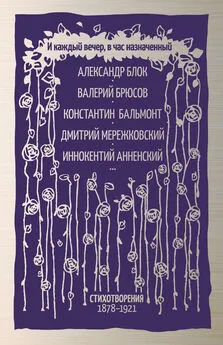Ирина Кирилюк - И каждый вечер в час назначенный...
- Название:И каждый вечер в час назначенный...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Кирилюк - И каждый вечер в час назначенный... краткое содержание
И каждый вечер в час назначенный... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда я пришла в театр, Рахленко играл яркие, разнохарактерные роли. В то время огромным успехом пользовалась пьеса «Хто смяецца апошнім» (К. Крапива, 1939 г.). Эта пьеса шла почти в 80 театрах нашей страны и несколько десятилетий украшала афишу Купаловского театра. Леонид Григорьевич был великолепным исполнителем Горлохватского! Он сыграл эту роль более 400 раз, и когда спектакль уже не шел на сцене, Рахленко довольно часто показывал своего героя на концертах. Его Горлохватский продолжал существовать, как реальный человек.
Рахленко умел четко конструировать свою роль. Он не просто шел по интуиции, как Глебушка, а выстраивал свою конструкцию «научно». Это всегда было продумано и интересно. Поскольку Леонид Григорьевич совмещал в театре две профессии, актерскую и режиссерскую, то первая оставалась основной, так как спектакли его какими-то новыми находками не выделялись. Они были хорошо разработаны, но никогда не бывали яркими и неожиданными. К сожалению, он часто смотрел на режиссуру глазами актера.
Рахленко был выдающимся артистом, неординарным человеком, но режиссура его не отличалась чем-то оригинальным. Его спектакли были грамотны, но они редко создавали какой-то шумный успех. Что делать... Не так много режиссеров, способных вырываться за рамки вычного, подобно Товстоногову, Эфросу, или Питеру Бруку. Режиссура «такого полета» — это всегда от Бога.
Меня удивляло, что почти все спектакли в нашем театре Рахленко знал наизусть. Даже когда шли не его спектакли, он тихонько садился в ложу и наблюдал за реакцией в зрительном зале.
Леонид Григорьевич был главным режиссером Купаловского театра, и довольно часто на многих художественных советах его анализ спектакля или роли был весьма неожиданным для самого тонкого и изощренного театроведа. У него был такой изобретательный лексикон, что даже при отрицании или утверждении чего-то (при всей его субъективности) просматривалась очень четкая, выстроенная логика. Понимаешь, что оно вроде бы и не так, совсем не так. А послушаешь его и подумаешь: «Нет, именно так. Он прав». Поразительно!
Как у всякого творческого человека, у Рахленко не все шло ровно и гладко. На то она и жизнь, чтобы преподносить нам «свои сюрпризы». Ольга Галина рассказывала мне, что был даже период (во время войны, в Томске), когда Леонид Григорьевич ушел из Купаловского театра и какое-то время работал артистом Малого театра. Вероятно, были причины. Не знаю... В Одессе говорят: своя рубашка любой застиранности ближе не только к телу, но и к душе. Эта ситуация каким-то образом прояснилась, и Рахленко через некоторое время вернулся обратно в Купаповский театр.
Творческие взаимоотношения — область сложная и болезненная. Тут сталкиваются обнаженные интересы людей. И если нет выдержки, доброжелательства, не хватает такта, терпения, ума и человеческой мудрости, то столкновения неизбежны. Иногда это приводит к тяжелым последствиям, которые дают о себе знать всю жизнь. В этом кроется фатальная жестокость нашей солнечной профессии.
Мне вспоминаются грустные глаза Рахленко, когда не стало Лидии Ивановны. Я жила с ним в одном дворе, и мы с ним часто беседовали. Однажды при разговоре у него тихо вырвалось:
— Зина, мне ее все время не хватает... Такая пустота...
Вероятно, Леонид Григорьевич понял, что для него значила Ржецкая только тогда, когда Лидии Ивановны уже не стало...
***
Я часто думаю о том, что наши роли все-таки не уходят бесследно, не растворяются в небытии. Они продолжают жить, наполняя энергией сцену, создавая особую, невидимую ауру. Вспоминая Леонида Рахленко в роли Горлохватского, я не могу не вспомнить образ Туляги, которого филигранно вылепил ГЛЕБОВ.
Про Глебова говорить спокойно нельзя. Не человек, а волшебник!
Без всякого театрального образования, это был актер удивительной органичности. Он мог оправдать буквально все, и сам, как ребенок, верил в то, что происходило на сцене. Может быть, отсюда возникала та удивительная искренность поведения на сцене, которой редко кто владел так, как Глеб Павлович.
Глебов — это актер интуиции, импровизации, актер своей непознанной стихии. Он работал так легко, как птица летает, как дышат люди, не задумываясь, когда делать вдох, а когда выдох. Он просто существовал в радостном и счастливом полете. Мне даже кажется, что и своим талантом он пользовался шутя. Он совершенно не знал, как, что и почему надо делать именно так. Природа и талант выливались из актера, как бурный, трудно сдерживаемый поток, режиссерам приходилось только управлять этим потоком, лишь слегка его корректируя.
Его Пранцись Пусторевич из «Паўлінкі» — классический эталон комедийного мастерства. Глебов играл в этом спектакле более 20 лет, и всегда выпукло и ярко. А его трюк с ложками до сих пор перед моими глазами. Помните, Пусторевич предлагает отцу Павлинки сделать «суд-перасуд» и бьет ладонью по ложкам? Ложки взлетали, лихо перекручивались каким-то кульбитом. Это же настоящее актерское чудо!
Ну, а про его Тулягу без восклицательных знаков и говорить нельзя. Туляга был неповторим, а его «дробненькая», семенящая походка и голова, которая все время куда-то пряталась, как у страуса, говорили о характере героя выразительнее любых слов. Конечно, надо отдать должное самой пьесе, написанной едко, остро и талантливо. Каждый ее персонаж был словно списан Кондратом Крапивой с наших актеров. Тетя Катя — Ржецкая, Горлохватский - Рахленко, жена Горлохватского — Полло — стопроцентное попадание, а Туляга — Глебов — вообще шедевр. Самым высоким достижением в этом спектакле я называю роль Глебова. Это была идеальная актерская работа. Это была поэзия! «Поэзия трусости», если можно так сказать. Он так искрение нарисовал своего Тулягу, в любви к нему показал его таким несчастным и таким счастливым, таким богатым и бедным, таким одаренным и одновременно бездарным, что мне казалось, Крапива не сам придумывад этого Тулягу, а списывал с исполнения Глеба Павловича.
В 1948 году Литвинов поставил «Дзень цудоўных падманаў» («Дуэнья») по пьесе Р. Шеридана, где Глебов великолепно играл роль Мендозы. Это был веселый, теплый у жизнерадостный спектакль, в котором на протяжении 20 лет Глебов дарил зрителю завораживающую улыбку комедийного таланта.
По своей внутренней органике Глебов был актером характерным, комедийным, и, как правило, роли масштабного драматического звучания ему были не очень близки. И когда такие роли попадались (например, роль Каренина), он, как дисциплинированный актер, понимал, что надо экспериментировать, надо пробовать, надо искать, но его внутренняя природа не отвечала таким ролям. Это было, как говорят, не его направление, не его работа. Глебов — величайший комедийный актер, подымающийся до вершин трагикомедии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: