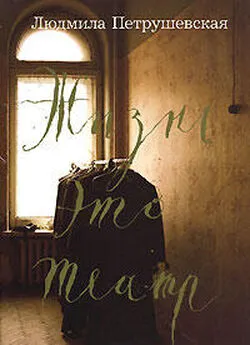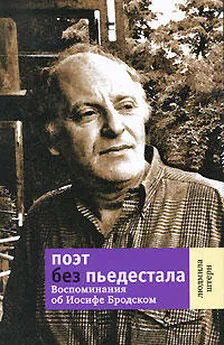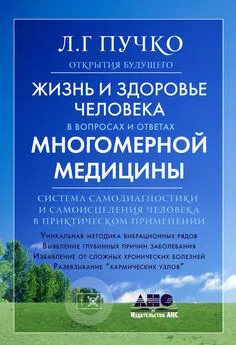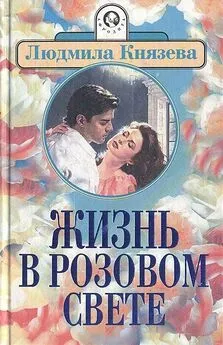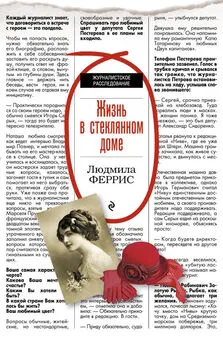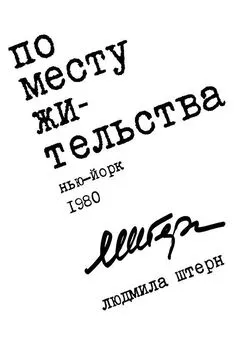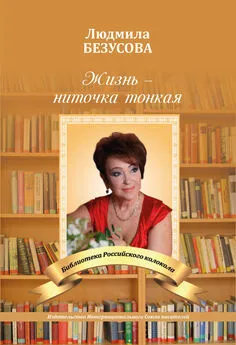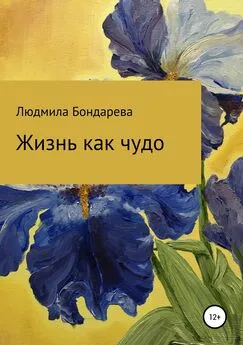Людмила Штерн - Жизнь наградила меня
- Название:Жизнь наградила меня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ирина Богат Array
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1418-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Штерн - Жизнь наградила меня краткое содержание
Жизнь наградила меня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Откуда было нам, желторотым первокурсникам, знать, что этот дед – академик Келль, который развлекался, «работая» под Толстого? Он был начальником практики, и его имение находилось неподалеку от базы.
Отхохотав и вдоволь поиздевавшись, народ нас горячо благодарил, ибо с той поры Келль посылал свои «джипы» и ЗИМы по полям и лугам подбирать и привозить в лагерь усталых практикантов.
Псковскую практику я не забуду до конца моих дней. Не потому, что это был первый полевой сезон в моей жизни. И не потому, что я выучила там геодезию и основы топографии. Там я впервые столкнулась лицом к лицу с реальностью колхозной жизни.
Наша столовая представляла собой грубо сколоченные деревянные столы со скамьями, под соломенным навесом. А в нескольких метрах от них смердела помойка, куда студенты выплескивали и выбрасывали из тарелок остатки щей и макарон с тушенкой, главным нашим питанием. Во время трапез к помойке стекались старухи и ребятишки из соседних деревень. Ничего не просили. Молча подставляли бидоны и ведра, когда мы подбегали с нашими объедками, прежде чем сунуть тарелки в «моечное» окно. Нас это не шокировало. Само собой подразумевалось, что собирают корм для свиней. И только в конце лета мы узнали, что никаких свиней в деревнях давно нет. Объедки лагерной столовой Горного института были источником существования нескольких псковских деревень.
Продолжаю экскурсию по Горному.
Миновав колонны и скульптуры – «Похищение Прозерпины» и «Борьбу Геркулеса с Антеем», – мы входим в темный вестибюль, где дремлет, прислонившись к стене, охранница. Над ней плакат: «Предъявляйте пропуск в открытом виде». В студенческие годы я вечно теряла пропуск в начале семестра. И проделывала такой трюк: подходя к охране, долго рылась в необъятном портфеле, создавая в дверях пробку.
– Да проходи ты! – раздраженно махала руками охрана. – Что я, тебя не знаю, что ли?
И тридцать лет спустя, когда я пришла в Горный, приехав в тогда еще Ленинград из Бостона, я расстегнула американскую сумку и начала в ней копаться. И совсем другая тетка приоткрыла один глаз и махнула рукой:
– Да проходи ты! Что я, тебя не знаю, что ли?
В наши годы в портретной галерее на первом этаже института вкусно пахло мастикой, надраенные полы сверкали, как в бальных залах. Со стен строго взирали портреты корифеев, а мы фамильярно им подмигивали. В столовую на втором этаже стекались студенты во время большого перерыва. Было весело, светло, и над столами витал запах свежих булочек.
Поднимаюсь на третий этаж. Дверь кафедры математики открыта, внутри ни души. Я была тайно влюблена в доцента этой кафедры Рувима Эммануиловича Соловейчика. Панически страшась интегралов с дифференциалами, я только благодаря ему не бросила институт после первого семестра. Соловейчик был суховатым, молчаливым человеком, превосходным математиком и отличным педагогом и к тому же мастером спорта по гребле. Рыжий, конопатый, с каким-то дефектом правого глаза, он излучал спокойствие и уверенность, что мир не полетит в тартарары в ближайшие полчаса. Рувим Эммануилович прошел войну от Ленинграда до Берлина, был трижды ранен и награжден многими орденами и медалями.
Однажды, принимая вступительный экзамен по математике, он вкатил двойку абитуриенту. Пострадавший оказался демобилизованным офицером. Он разъярился и закатил грандиозную истерику.
– Мы защищали родину, кровь проливали, руки, ноги и жизни теряли, пока вы, жидочки, отсиживались в тылу и трахали наших баб!
Соловейчик слушал и молчал. Офицер распалялся: «жиды», «жидочки», «жиденята» выскакивали, как жабы, у него изо рта.
И вдруг Рувим Эммануилович вскочил, схватил горшок с цветами с ближайшего подоконника и разбил его о голову абитуриента.
Ожидали, что его посадят и уж во всяком случае выгонят из института. Но дело замяли. И впрямь: «Царил у нас не наш какой-то дух».
А вот роскошный амфитеатр. Три доски по мановению руки скользят от пола до потолка. С него свисают модели атомов, по стенам мерцают таинственные приборы. Какой контраст с убогими школьными классами! В этом, набитом до отказа химическом амфитеатре весь геологический поток, двести человек, слушал курс общей химии. Помню, как на первой лекции из задних дверей, так и хочется сказать – на сцену, – выбежал высокий элегантный человек с артистическими манерами и эффектной жестикуляцией.
– Дорогие мои юные друзья! – воскликнул он глубоким баритоном. – Здесь, в этих стенах, читал лекции великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев! – пауза. – Теперь буду читать вам лекции я – Сергей Львович Богдановский! – Рука прижата к сердцу, низкий театральный поклон, гром аплодисментов.
Богдановский оказался скучным лектором и равнодушным к науке человеком. Уже на четвертой лекции амфитеатр был наполовину пуст, а к концу семестра общую химию посещали только старосты групп и амбициозные отличники. А Сергей Львович все прижимал руку к сердцу, раскатисто хохотал и низко кланялся
Кафедра общей геологии. Самым любимым профессором на ней был Владимир Иванович Серпухов, сутулый, бородатый, с разбегающимися лучиками морщин вокруг глаз. О его рассеянности и доброте ходили легенды. За свою пятидесятилетнюю педагогическую деятельность он только однажды поставил двойку. И от расстройства заболел. А выздоровев, поехал к студентке домой просить прощения.
Происходил как-то в Ленинграде международный геологический конгресс. Серпухов выбран был генеральным докладчиком. Два месяца вся кафедра готовилась: раскрашивали карты, чертили геологические профили, печатали фотографии. Уникальные материалы были уложены в заграничную папку крокодиловой кожи, подаренную профессору президентом какой-то африканской страны. Он открыл там месторождение молибдена. Отправляясь на конгресс, Владимир Иванович положил папку уникальных материалов на крышу своей «Победы» и начал рыться в карманах в поисках ключей. Нашел, сел в машину и рванул на конгресс. Ценная папка свалилась в лужу. Профессор Серпухов сделал блестящий доклад, так и не заметив отсутствия своих материалов.
Соловейчик, Богдановский, Серпухов… Никого из них нет в живых. Зачем я притащилась в Горный? Ведь никого и ничего не осталось здесь от моей жизни. И тут взгляд уперся в доску почета. И центральная фигура на ней – нет, не верю своим глазам – заведующий моей кафедрой гидрогеологии – профессор Нестор Иванович Тол стихии.
В высшей степени жив! Хотя даже в пору нашего студенчества казалось, что ему около ста лет!
Нестор Иванович – из сибирских казаков. Согласно традиционному клише, должен быть рослым, широкоплечим, грубым. А он маленький, розовый, как будто из лиможского фарфора. Хоть вешай на елку, как хрупкую елочную игрушку. Вкрадчивые движения, тихий голос, мягкая улыбка и железный характер. Женат на Матильде Моисеевне, рослой усатой даме еврейской национальности, тоже профессоре геологии. Друг в друге эти профессора души не чаяли. Дома сидели в одном кабинете. Столы их стояли напротив друг друга. Поднимешь глаза от научной работы и встретишься с любимым человеком. Но и глаз поднимать не надо, потому что перед их носами стояли портреты друг друга. Так что, куда ни кинешь взор… Когда случались по радио концерты по заявкам, Нестор Иванович неизменно заказывал «Кто может сравниться с Матильдой моей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: