Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!»
- Название:«Иду на красный свет!»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!» краткое содержание
Большинство произведений на русском языке публикуется впервые. В книге использованы рисунки автора.
Предназначена широкому кругу читателей.
«Иду на красный свет!» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В новом духе сделал я и несколько книжных обложек, оформив их чисто типографскими средствами, например книгу Горвата «Виза в Европу» и две книги Поничана — «Ангара» и «Вечерние огни». Особенно мне удался один фотомонтаж — обложка книги Эренбурга «Единый фронт», выпущенной на словацком языке прешовским издательством «Паллас».
Большинство статей в журнал «Словенска графиа» мы писали с Горейшем, я наглядно демонстрировал, какие чудеса можно делать с помощью одних лишь наборных средств; тогда были модны всевозможные линии, кружочки, четырехугольники и тому подобные геометрические декоративные элементы.
«Нова Братислава» — это был журнал иного типа. Его выпускали в отличном графическом оформлении Россмана, с прекрасными фотографиями Функе. Большая часть материалов журнала посвящалась урбанизму и новой архитектуре.
Вспоминая о пионерском периоде словацкой книжной графики и типографского дела, не могу не отметить работ Людевита Фуллы, а также первую книгу стихов Лацо Новомеского, обложку которой сделали Владо Клементис и художник Ярослав Яреш {137} 137 Яреш Ярослав (1889—1967) — чешский живописец, скульптор и театральный декоратор, основатель Словацкого художественного клуба, заслуженный художник Чехословакии.
. Наши начинания хорошо принимали типографы. Взять хотя бы одного из них, доброго приятеля, товарища Лабуду, погибшего позже в нацистской тюрьме.
Говоря о создании «Дава», непременно вспоминают Завадку. Там в двадцать пятом году впервые сошлись основатели группы — Клементис, Уркс, Илемницкий и Светлик. Они разбили в лесу лагерь, в часе ходьбы от деревни, на берегу бурного горного потока, где в изобилии водилась форель.
От лесного управления в Завадке вверх в горы курсировал по узкоколейке паровозик, свозивший к лесопилке тяжелые стволы. Неподалеку от лагеря находилась охотничья избушка «Клатно», где можно было купить молоко. Туда вела крутая лесная дорога, по ней лесорубы ходили на работу и возвращались домой в деревню.
Завадку открыл, скорее всего, Владо Клементис. Его родной Тисовец находился неподалеку отсюда, и он исходил все эти места вдоль и поперек до самого Муранского замка и Кралёвой Голи. Это и в самом деле был глухой уголок. Кроме лесорубов, тут не встретить было ни живой души, разве что медведя, да и то если повезет. В здешних местах жило их несколько, но увидеть медведей было непросто: они избегали людей и прятались в труднодоступные чащобы, куда их загоняла наступающая цивилизация, пусть и весьма примитивная в здешнем ее виде.
В деревне было две корчмы. Одну держал еврей, другую — торговец Гавалец. В той и другой продавалась паленка, способная довести до буйства. Учитывая этот факт, оба корчмаря отгородились от посетителей деревянной решеткой из частых вертикальных реек до самого потолка, в которой было проделано оконце. Если после возлияний страсти чересчур накалялись и глаза у мужиков начинали недобро сверкать, оконце закрывалось, и уж тогда не получить было ни капли. По эту сторону решетки посетители могли вести себя по собственному усмотрению, скажем, ломать столы и стулья. Потом корчмарь все равно высчитывал у виновников за весь причиненный ущерб. Завадка нередко пила с горя. Случалось, стояла лесопилка, не валили лес, тогда спичку и ту приходилось расщеплять пополам. Или когда бастовали. В безработицу сюда вереницей тянулись судебные исполнители, их выгоняли из деревни цепами и косами, а затем непокорных угрюмых бунтарей уводили жандармы в быстрицкий окружной суд.
У Гавальца мы покупали хлеб, картошку, соль, овечий сыр, колбасу, иногда — баранину и готовили плов. Ходили мы к нему раз в три дня, главным образом за хлебом, которого съедали много. Кроме хлеба, основной нашей пищей было молоко из клатновского охотничьего домика.
В первое же лето в Завадке я очень сблизился с Эдуардом Урксом, которого до этого видел лишь мельком. Поначалу он казался мне замкнутым и язвительным, темные колючие глаза его насмешливо поблескивали. Но это было первое впечатление. Уркс, отличный товарищ, человек добрый и легко уязвимый, свою мягкость пытался иногда прятать за сарказмом.
Что формирует человека и определяет его жизненный путь? Случайности? Почему человек стал писателем, журналистом, политиком, когда с таким же успехом он мог стать юристом, ученым, инженером и кем угодно еще? Мы метались в поисках себя, а Уркс — уже сложившаяся личность — отличался способностью творчески и философски мыслить. Талантливый прозаик, проницательный и тонкий литературный критик, публицист, журналист, философ. Достаточно вспомнить его остроумные лирические рассказы, подписанные псевдонимом М. Ц. Бисс, суждения о книгах, с которыми, может быть, необязательно было соглашаться, но они свидетельствовали о твердых убеждениях компетентного знатока литературы, для которого никогда нет ничего безразличного. Поражала философская эрудиция Уркса — ведь он не закончил курс, расстался с литературой, забросил науку и отправился бороться за счастье народа как редактор «Правды» — газеты словацких коммунистов.
Мне нередко приходилось слышать: «Не будь олухом, не принимай все так близко к сердцу». Видно, я родился на другой планете. При всем своем сумасбродстве я принимал близко к сердцу все, что только можно было, а было всего немало. Волнение за близких, за людей вокруг, за судьбы мира. Даже когда я смеялся и шутил, где-то глубоко во мне сидела тревога, как бывает, когда человек надышится светильным газом — пока вытравится он из легких, пройдет не меньше года. Таким представлялся мне неустойчивый характер жизни после мировой войны, стабильный не более, чем Версальский мир.
Мне очень хотелось поделиться своими мыслями, но не хватало опыта — я не умел изложить их на бумаге, не знал, какую выбрать форму, какие слова.
Я попробовал учиться мастерству у сложившихся писателей, но ведь каждый из них прожил свою жизнь, не похожую на мою. У одних она была богаче, насыщеннее событиями, они писали с поразительной уверенностью и знанием дела о встреченных ими людях, делали их героями своих книг. Жизнь других была устроенней, хотя беднее событиями, чем моя, но они сумели развить свое воображение. Я не был уверен, что моя внутренняя жизнь представляет интерес для других, писать об этом казалось нескромным. Выходило столько замечательных книг! Я же с трудом мог накропать стишок. Но в один прекрасный день я все же отважился взяться за прозу — и словно пустился в путь с завязанными глазами, Я понятия не имел о композиции, не знал, как избежать других подводных камней писательского ремесла. Поднаторев немножко в поэзии, вы принимаетесь за прозу — и словно с крутого утеса бросаетесь в волны отчаяния. Средства, которыми вы владеете и которые уместны в поэзии, например сжатость формы, в прозе вдруг оборачиваются невыразительной банальностью: «Встал, улыбнулся, вышел вперед и воскликнул… Отломил хлеба, снял рубашку, заложил руки за спину…» У меня немало оказалось таких фраз, и я принялся их вычеркивать; книжка становилась все тоньше и тоньше. Ничего в ней не раскрывалось глубоко, только намечалось. Но за скупыми строками уже тогда крылся страх, еще не осознанный всеобщий страх. Рубили лес, строили полигоны. Не успели народы перевести дух, забыть о прошедшей войне, как новая война стучалась в дверь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
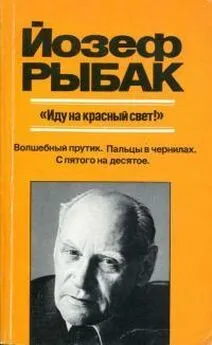
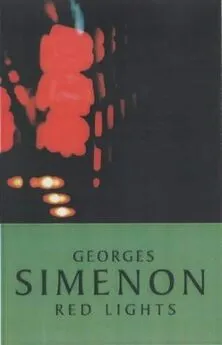
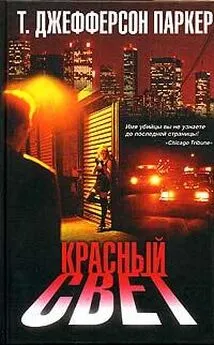
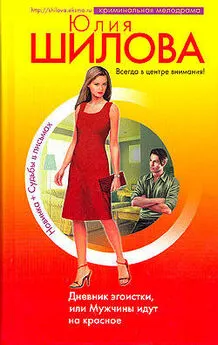

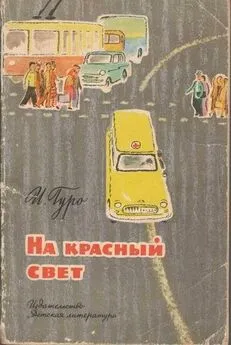

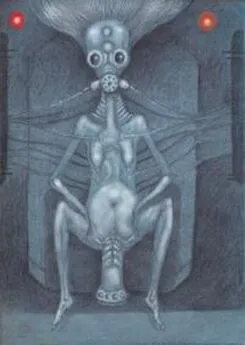
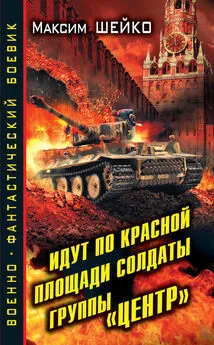
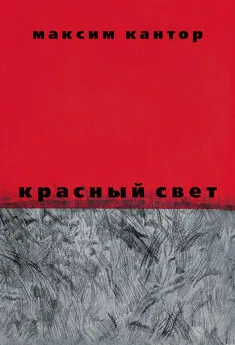
![Kaldabalog - Красный свет [Часть 1 Дэнни Призрак.]](/books/1146919/kaldabalog-krasnyj-svet-chast-1-denni-prizrak.webp)