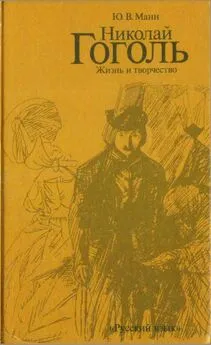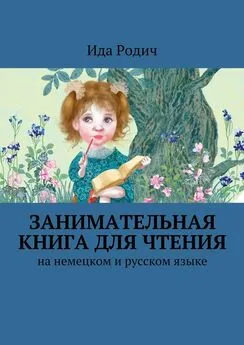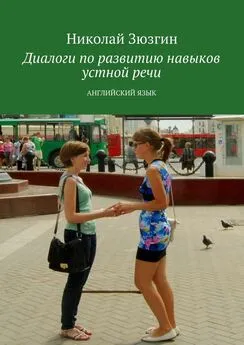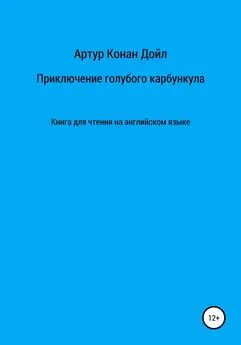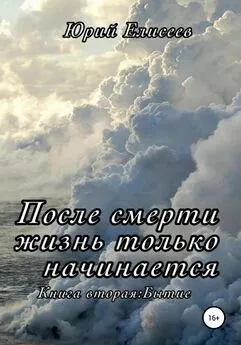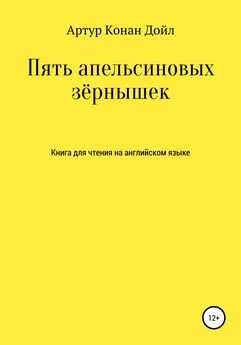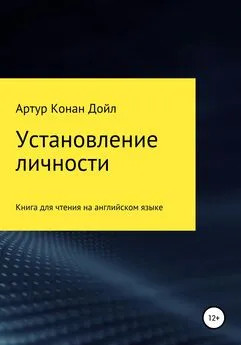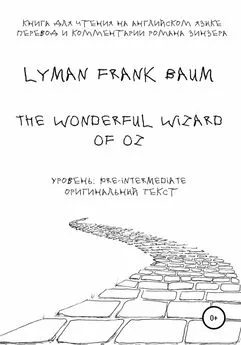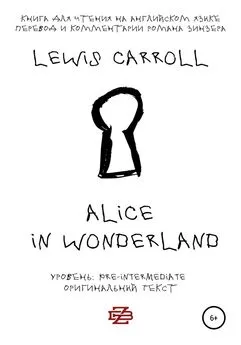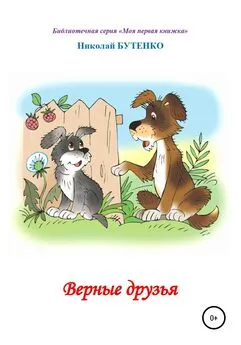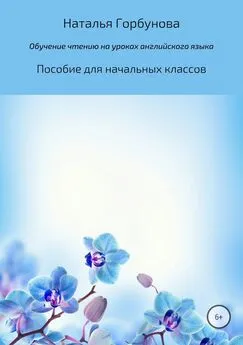Юрий Манн - Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке)
- Название:Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский язык
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:-200-00073-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Манн - Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке) краткое содержание
Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Реакция зрительного зала не была единой и устойчивой; она менялась и развивалась. С самого начала комедия задала зрителям некую загадку. "Выбив" их из ожиданий такого зрелища, к которому они привыкли, она в то же время не дала и твёрдого, ясного ответа на эту загадку. Не дала ответа по причине и двойственности самого спектакля, и неподготовленности публики. Поколебавшись и посомневавшись, публика решила, что это фарс, и соответствующим образом настроилась на восприятие пьесы. В целом нельзя было сказать, что спектакль потерпел неудачу; скорее, он имел успех — и даже большой успех. Однако не тот успех, которого хотел Гоголь.
Гоголь следил за спектаклем с возрастающим чувством тоски и горечи. Как он и предвидел, актёры безбожно карикатурили. Н. О. Дюр* превратил Хлестакова в обыкновенного водевильного шалуна. Была скомкана "немая сцена". Лишь Сосницкий — Городничий — оправдал ожидания драматурга. Неплохо сыграл Осипа Афанасьев*. Но изменить общей картины всё это не могло. "Моё же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не моё".
И это при том, что общая реакция зрителей была благожелательной, и от внимания Гоголя это не укрылось. "А публика вообще была довольна. Половина её приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, её бранила по причинам, однако ж, не относящимся к искусству".
Под причинами, не относящимися к искусству, подразумевались факторы общественные, политические. Автора "Ревизора" обвиняли в вольномыслии, в подрыве существующего порядка (Анненков тоже отметил, что среди прочих упрёков раздавались упрёки в "клевете"). В таких упрёках и обвинениях не заключалось ничего неожиданного, если вспомнить о большом количестве титулованных и начальствующих лиц в зрительном зале. На Гоголя подобные отзывы действовали болезненно.
Рождение спектакля принято отмечать празднеством. Вечером 19 апреля у Прокоповича собралось несколько друзей Гоголя для "ночного чая"; ждали Николая Васильевича.
Когда тот появился, Прокопович решил порадовать его ещё одной новостью — только что вышла книжечка с "Ревизором". "Полюбуйтесь на сы́нку", — сказал Прокопович. Реакция Гоголя, по воспоминаниям Анненкова, была неожиданной.
"Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошёл к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: "Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все…"
Ругали вовсе не "все", однако в восприятии Гоголя тёмные краски уже начинали сгущаться.
Между тем вслед за премьерой последовали новые представления "Ревизора", умножая разнообразные толки и суждения.
Немало нашлось у пьесы ожесточённых врагов и хулителей. Среди самых непримиримых называют чиновника департамента Духовных дел Ф. Вигеля*. Он не видел и не читал комедию, но столько наслышался о ней, что составил себе твёрдое мнение: "Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в котором свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько накопил плутней, подлостей, невежества!" Так в сознании этого ретрограда преломилась гоголевская идея о собирательном характере города.
Вскоре появились первые рецензии — Ф. В. Булгарина в "Северной пчеле" и О. И. Сенковского в "Библиотеке для чтения". И там и здесь Гоголя упрекали в преувеличениях, неправдоподобии, отсутствии серьёзной идеи.
Конечно, у комедии нашлось и немало друзей — преимущественно из числа молодёжи, особенно студентов. В. Стасов*, в будущем известный художественный критик, вспоминал, что он и его товарищи по Петербургскому училищу правоведения вели жаркие словесные баталии в защиту "Ревизора". Ещё больше защитников у Гоголя было в Москве, куда вскоре дошли первые экземпляры книги, вызвав восторженное поклонение в кружке Станкевича, в доме Аксаковых и среди артистов, особенно тех, кто группировался вокруг Щепкина.
Журналы тоже были не все против Гоголя. Наоборот, наиболее серьёзные и авторитетные литераторы высказались за него. И П. А. Вяземский в пушкинском "Современнике", Н. И. Надеждин в "Молве" (приложении к журналу "Телескоп"), В. П. Андросов* в "Московском наблюдателе" безоговорочно поддержали "Ревизора".
Но Гоголь как бы не хочет принимать в расчёт голоса своих друзей и доброжелателей и упорно продолжает говорить о всеобщем осуждении, чуть ли не анафеме. "Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого… Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня". В чём же дело?
Отчасти объяснение, видимо, в том, что враждебные голоса оказались для Гоголя внятнее и слышнее, чем дружеские. О прессе это можно сказать совершенно точно: только отзывы Булгарина и Сенковского успел прочитать Гоголь в Петербурге — всё остальное появилось, когда он уже был за границей. Но ведь знал же Гоголь о настроении своих друзей, предвидел, что они напишут! И разве в первый раз случалось ему слышать голос хулы? И прежние его книги — "Миргород" и "Арабески" — вызывали упрёки в карикатурности и преувеличениях, но ведь не оказывало это такого действия на автора.
Многое объясняется теми творческими устремлениями, которые субъективно связывались с "Ревизором". Это было произведение, на которое Гоголь возлагал особые надежды, а потому слова осуждения или критики воспринимал особенно болезненно.
Когда Гоголь говорил, что не понят Хлестаков, не понята "немая сцена" и т. д., то это было равнозначно тому, что не понято высшее, философское значение пьесы. Но тем самым смазан и её общественный эффект, ибо он вытекал из глубины комического. "И то, что́ бы приняли люди просвещённые с громким смехом и участием, то самое возмущает жёлчь невежества…" (письмо к М. П. Погодину от 15 мая 1836 г.).
Гоголь обращал внимание на то, что диапазон его комедии сравнительно ограничен: "Столица щекотливо* оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка её собственные нравы?" Но дело в том, что "шесть провинциальных чиновников", да и сам уездный город проливали свет и на столицу. Гоголевский город, мы видели, заключал в себе способность к самодвижению, и реакция на пьесу подтвердила эту особенность.
Возможно, эта реакция что-то открыла в комедии и самому Гоголю. Драматург сетовал, что из комедии делают слишком кардинальные выводы: "частное принимается за общее, случай за правило". Однако ведь к этому подводил не кто другой, как гоголевский художественный мир, его собирательный, универсальный характер.
Мысль Гоголя о собирательности города была двойственной и заключала в себе в силу этого огромную взрывчатую энергию. Драматург намеревался свести вместе лишь "всё дурное", "все несправедливости"; однако он не пояснил, что же остаётся за границей изображения (вспомним недоговорённость "немой сцены", неясность действий и намерений настоящего ревизора), поэтому "исключение" воспринималось как "правило".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: