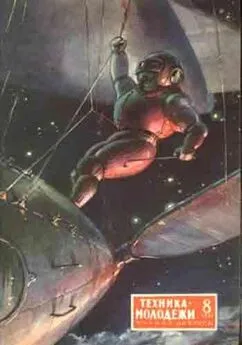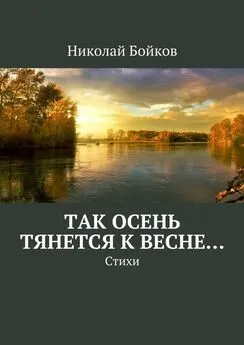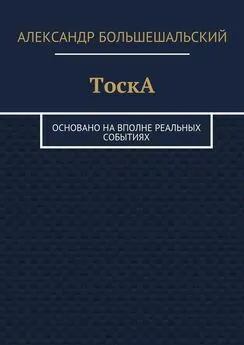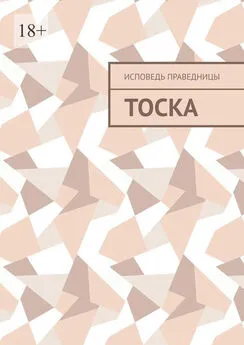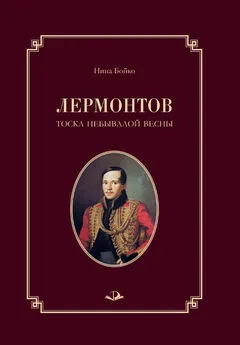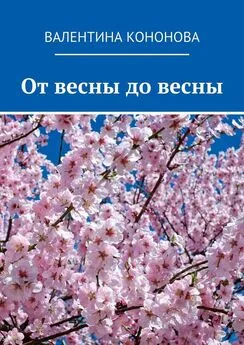Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]
- Название:Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов] краткое содержание
Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем Кушинников и Ольшанский продолжали задавать ему вопросы, на которые трудно было ответить. Например, почему, измученный насмешками Лермонтова, Мартынов не обратился в суд? Пришлось Мартынову сочинять более вескую причину дуэли: якобы Лермонтов вывел его сестру княжной Мэри в романе «Герой нашего времени», чем глубоко оскорбил не только ее, но и его, Мартынова.
Допустить причиной только несчастную «княжну Мэри» было нельзя. Об этом ему прямо заявил Кушинников. И Мартынов припомнил пропавший пакет! Присовокупив, что с письмами в нем находился дневник Натальи Мартыновой, он повернул дело так, что Лермонтов, безответно влюбленный в его сестру, знал о наличии дневника и был заинтересован прочесть его.
Не было дневника! Стоит вспомнить письмо Мартынова к матери и ее ответ:
«Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письме, также пропали; но он, само собою разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение –– повторите; также и сестер попросите от меня...»
«Как мы все огорчены, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: твои сестры целый день писали их».
О «пропавшем пакете» Кушинников отправил донесение Дубельту в Петербург, нисколько не веря этому вымыслу. И если бы дело Мартынова продолжало вести жандармское министерство, Кушинников бы докопался до истины. Но Бенкендорф снизошел к раболепной просьбе Мартынова: дело передали военному суду. Мартынова перевели из тюрьмы на гауптвахту.
«Когда его перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воздухом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, черный бархатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха. Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом. Они / все трое/ бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произнести имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии» ( Э. А. Верзилина ).
Дружеские отношения Верзилиных с убийцами поэта дали повод горожанам думать, что в дуэли был все же виновен Лермонтов. Мартынов не упускал возможности рассказать о несчастной своей сестре и пропавшем пакете, и за Лермонтовым пополз шлейф непорядочного человека. Как тут не вспомнить его строки:
За все, за все Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Пятигорский окружной суд непременно потребовал бы переписку Мартынова, в которой ни он, ни его мать, ни о каком дневнике, вложенном в пакет, не упоминали. Но дело Мартынова по требованию военного министра было передано Траскину, да к тому же с указанием императора закончить как можно скорее. Закончили в 4 дня. По совету Траскина, переданному через Васильчикова и Глебова, Мартынов исключил из своих показаний упоминание об условиях дуэли. «Покамест не упоминай об условии трех выстрелов, –– пишет Глебов, –– если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет сказать всю правду».
Глебов при допросе дополнил: «О старой же вражде между ними, нам, секундантам, не было известно. Мартынов и Лермонтов нам об этом не говорили». Тем самым он подтвердил «княжну Мэри» и «пропавший дневник». С количеством секундантов Васильчиков и Глебов запутали комиссию. Сперва секундантом был один Глебов , потом добавился Васильчиков, потом оказалось, что командовали на дуэли то Столыпин, то Трубецкой.
Граббе, ознакомившись с их показаниями, предложил военному суду лишить Мартынова чина, ордена и записать в солдаты до выслуги без лишения дворянского достоинства. Корнету Глебову и князю Васильчикову предлагалось «вменив им в наказание содержание под арестом до предания суду, выдержать еще некоторое время в крепости с записанием штрафа сего в формулярные их списки».
Суд вынес решение: «Подсудимых –– отставного майора Мартынова, за произведение с поручиком Лермонтовым дуэли, на которой убил его, а корнета Глебова и князя Васильчикова за принятие на себя посредничества при этой дуэли, лишить чинов и прав состояния».
Согласно установленному порядку, окончательное решение принимал император, и Николай I вынес свою резолюцию: «Майора Мартынова посадить в крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в сражении тяжелой раны».
Постановление военного суда гласило: Мартынову отбыть трехмесячный арест на Киевской крепостной гауптвахте; срок церковного покаяния для него назначит Киевская духовная консистория. Васильчиков и Глебов были прошены.
XXXVI
Т. А. Бакунина, из письма к Н. А. Бакунину, 25 сентября 1841года.
«Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал, — но не все же забудут, и по себе чувствую, что скорбь об нем не может пройти, он будет жить, правда не для многих, но когда же толпа хранила святое или понимала его. Мне кажется, я слышу, как все эти умные люди рассуждают, толкуют об Лермонтове: одни обвиняют, другие с важностью извиняют его; просто противно. Мне кажется, «Московский вестник» –– очень верное выражение этого общества, его ничтожества и чванно-натянутой важности».
Москва, любимая Лермонтовым Москва, ни словом не откликнулась на его смерть. «Московские ведомости», которые Бакунина назвала «Московским вестником», хранили гробовое молчание. Но ведь и смерть Пушкина печать обошла молчанием, и только Андрей Краевский посмел написать в «Литературных прибавлениях» к газете «Русский инвалид»: «Солнце русской поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]](/books/1074286/nina-bojko-toska-nebyvaloj-vesny-m-yu-lermontov.webp)