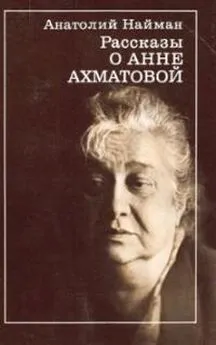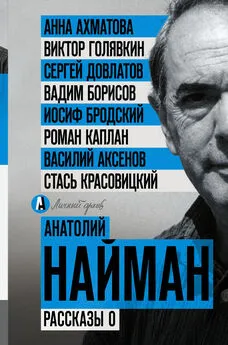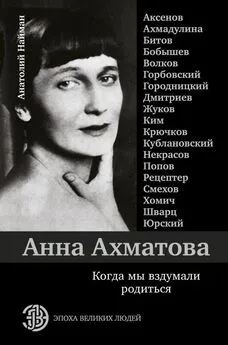Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой
- Название:Рассказы о Анне Ахматовой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- ISBN:5-280-00878-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой краткое содержание
Рассказы о Анне Ахматовой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последние строчки предполагают по крайней мере два разных прочтения. «Поэт не сказал» этого, потому что мудрость есть, и старость есть, и смерть есть, а опровержение их, или, точнее, победа над ними, — дело не поэзии, а веры. Однако благодаря нескольким приемам (сопоставлению «мудрости» со «старостью», рассчитанная неожиданность которого, чтобы не сказать — некорректность, имеет целью вызвать читательскую растерянность; введению утверждающе–сомневающегося «а может») на передний план выступает другой смысл: «поэт не сказал» этого, а мог бы. Мог хотя бы рискнуть. Последняя строчка синтаксически самостоятельная, лукавый вопрос: если поэзия в самом деле светит во тьме, то, может, и смерти нет? К этому можно прийти, только назвав ремесло священным, а священное — ремеслом. «Священное ремесло» не делает разницы между словами, вдохновленными Богом и вдохновленными Аполлоном. В таком случае шестистишие может иметь в виду известные слова Екклесиаста (глава IX, ст. 13, 14, 16; глава XII, ст. 1), не впрямую оспаривая его. Но если кончает Екклесиаст тем, что «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо», то почему же «ни один не сказал поэт», не дерзнул сказать, слов надежды до суда? — вот на что, похоже, намекает стихотворение. «I'll give thee leave to play till doomsday» («Я разрешаю тебе играть до Судного дня») — любимое место Ахматовой в «Антонии и Клеопатре», предсмертное обращение царицы к преданной служанке.
Она начала читать Шекспира (в том смысле, как читает поэт; филологи сказали бы — заниматься Шекспиром) в молодости и читала до конца дней, в разные периоды разные вещи или на разное обращая внимание в одной и той же. «Макбет» был в числе досконально изученных и постоянно используемых, макбетовские мотивы попадают в ее стихи непосредственно из трагического быта, воспроизводящего кровавые ситуации пьесы, и через Пушкина, чьи заимствования у Шекспира были ею обнаружены еще в 20‑е годы. «Реквием» и — шире — реквиемная тема времени террора, захватившего сорок без малого лет ее жизни, пропитаны словом и духом «Макбета». Трагический октябрь, сметающий людские жизни, как желтые листья, в четверостишии, адресованном Анрепу, и голосующие в саду деревья в эпиграфе к стихотворению «И вот, наперекор тому» — это отголоски движения Бирнамского леса, «шагающей рощи», несущей гибель королю–убийце.
Она рассказывала, что некий молодой англичанин жаловался на трудности чтения шекспировского текста, архаичный язык и прочее. «А я с Шекспира начала читать по–английски, это мой первый английский язык». Вспоминала, что, отыскав незнакомое слово в словаре, ставила против него точку; попав на него снова, вторую точку и т. д. «Семь точек значило, что слово надо учить наизусть». «Основную часть англичан и американцев я прочла в бессонницу тридцатых годов», — упомянула она однажды. Среди них были Джойс и Фолкнер. Читала она по–английски, почти не пользуясь словарем, а говорила с большими затруднениями, с остановками, ошибаясь в грамматике и в произношении. Сэр Исайя Берлин, слушавший, как она декламировала Байрона, пишет, что мог уловить всего несколько слов, и сравнивает это с современным чтением античных классиков, которое также едва ли было бы им понятно. Однажды, желая сказать мне то, что не предназначалось для чужих ушей, и допуская, что за дверью нас может услышать человек, который знал французский, она неожиданно заговорила по–английски, я как–то ответил, следующие несколько фраз были произнесены также с напряжением, хотя и свободнее, эпизод закончился, тема разговора переменилась. Через некоторое время она сказала: «Мы с вами говорили, как два старых негра».
Она находила пастернаковские переводы Шекспира более пригодными для театра, но отдавала предпочтение переводам Лозинского, адекватнее передающим «текст». О «Гамлете» говорила, что Призрак отца должен только мелькнуть на сцене, чтобы у зрителя осталось впечатление, будто ему показалось. В связи с этим заметила, что «вообще на сцене все должно каждую минуту меняться». Ее дневниковая запись «Найденная. цитата в Гамлете (Frеre Berthold)» означает, если не ошибаюсь, что слова Клавдия:
;sо, haply, slander, Whose whisper o'er the world's diameter, As level as the cannon to his blank, Transports his poison Fd shot, may miss our name, And hit the woundless air
(акт IV, сцена I)
(«.„тогда, возможно, клевета, чей топоток сквозь поперечник земли, прицельно, как пушка в десятку, несет свое отравленное ядро, может пролететь мимо нашего имени и ударит в неуязвляемый воздух») — отозвались в пушкинском плане «Сцен из рыцарских времен» фразой: «La piece finit par des reflexions — et par l'arrivee de Faust sur la queue du diable (decouverte de l'imprimerie, autre artillerie)» («Пьеса кончается рассуждениями — и прибытием Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания — своего рода артиллерия»). Тем самым книгопечатание, Фаустово изобретение которого приравнено здесь к изобретению монахом Бертольдом Шварцем пороха, уподобляется — через метафору — клевете.
Среди шекспировских строк, которые она знала наизусть и могла к случаю вспомнить, был стих из «Ромео и Джульетты», слова Ромео: «For nothing can be ill, if she be well» («Ни в чем не может быть изъяна, если с ней все хорошо»). Своеобразная анаграмма этого стиха, строчка, придуманная ею: «Ромео не было, Эней, конечно, был», — это не отрывок из неизвестного или неоконченного стихотворения, а самостоятельный афоризм, универсальный, как она с едва заметной ноткой шутливости настаивала, для всей сферы любовных отношений: мужчин, преданных возлюбленным так, как Ромео, не бывает; бросающих же «ради дела», как Эней, нет числа. Она не раз приводила его как словцо в беседе, в письме, пробовала предварить им сонет «Не пугайся — я еще похожей», но как эпиграф он не прижился.
Из «Антония и Клеопатры» она повторяла еще два места: слова Клеопатры о себе: «I am fire and air; my other elements I give to baser life» («Я огонь и воздух; прочие стихии отдаю низшей природе») — и об Антонии: «…his delights were dolphin–like, they show'd his back above the element they liv'd in» («…его очарование было подобно дельфину, оно выныривало спиной над стихией, в которой жило»). Эту принадлежность одновременно двум стихиям она распространяла на себя — вспоминала фразу, которой брат Виктор, моряк, оценил ее умение плавать: «Аня плавает, как птица»; в другой раз сказала о том же: «Я плавала, как щука». А как–то раз в тихий, теплый, пасмурный день мы сидели на скамейке перед домом, и она произнесла: «В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю».
Вообще же всякий шекспировский след в ее стихах был еще и знаком «английской темы», неким узелком для памяти. «Дальняя любовь» к уплывшему в Лондон другу (Анрепу) с 1945 года связалась, переплелась и, в плане литературы, обогатилась чувством к другому русскому, мальчиком также эмигрировавшему вместе с семьей из Петербурга сперва в Латвию, потом в Англию. Осенью того года, на гребне волны взаимных симпатий между союзниками в только что окончившейся войне, в Москву советником посольства на несколько месяцев приехал известный английский филолог и философ Исайя Берлин. Его встреча с Ахматовой в Фонтанном доме вызвала, по ее убеждению, все вскоре обрушившиеся беды — и убийственный гром, и долгое эхо анафемы 1946 года, и даже, наравне с фултонской речью Черчилля, разразившуюся в том же году «холодную войну». Эта встреча переустроила и уточнила — подобно тому как это случалось после столкновения богов на Олимпе — ее поэтическую вселенную и привела в движение новые творческие силы. Циклы стихов «Cinque», «Шиповник цветет», 3‑е посвящение «Поэмы без героя», появление в ней Гостя из будущего (прямо) и поворот некоторых других стихотворений, отдельные их строки (неявно) связаны с этой продолжавшейся всю ночь осенней встречей и еще одной, под рождество, короткой, прощальной, с его отъездом, «повторившим», с поправкой на обстоятельства, отъезд Анрепа, и с последовавшими затем событиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: