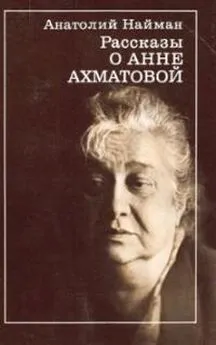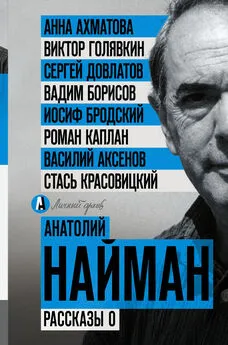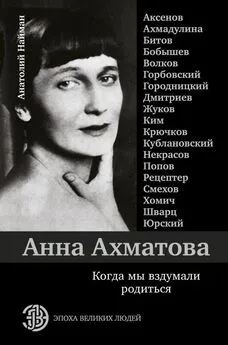Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой
- Название:Рассказы о Анне Ахматовой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- ISBN:5-280-00878-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой краткое содержание
Рассказы о Анне Ахматовой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это магическое ее свойство — прятать в себе больше, чем открывать, — - одно из главных, но не единственное. В опубликованной прозе о Поэме, в так называемом «Втором письме», Ахматова, искренне или притворно, недоумевала: «Л. Я. Гинзбург считает, что ее магия — запрещенный прием — why?» 2— а в стихах о Поэме уже сама открыто признавалась:
Не боюсь ни смерти, ни срама.
Это — тайнопись — криптограмма,
Запрещенный это прием.
О спрятанных в Поэме непрочитанных — или нечитаемых — криптограммах дают знать те, что выступают кое–где на поверхность. Одна из строф, замененных при публикации строчками точек со сноской: «Пропущенные строфы — подражание Пушкину», посвященная «каторжанкам, стопятницам, пленницам» времени террора, заканчивается жутким каламбуром:
Посинелые стиснув губы.
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы, Загремим мы безмолвным хором (Мы, увенчанные позором); «По ту сторону ада мы».
Женщини, и те, в частности, которых еще недавно поэты скорее провидчески, чем из очевидности могли воспевать как кассандр и гекуб «тринадцатого года», отделены от толпящихся по ту сторону зоны мужчин, в частности тех, которые их воспевали, — Мандельштама, Нарбута: «Цех поэтов — все адамы», как шутил в гимне «Бродячей собаки» Михаил Кузмин.
Голоса поэтов–предшественников, ждавших озвучения, то есть оживления, ее голосом, и поэтов–свидетелей, оставивших настроенные на высоту своего звука камертоны, смешиваются в Поэме с голосами безымянными, то сливающимися в гул — времени, толпы, — то прорезающимися в документально зафиксированных репликах;
«На Исакьевской ровно в шесть.,.» «Как–нибудь побредем по мраку Мы отсюда еще в «Собаку»..> «Вы отсюда куда?» — «Бог весть!»
Не сливаясь в хор, они обнаруживают новое качество, в котором проявляет себя голос автора. В продолжение одного разговора о Блоке Ахматова заметила: «Когда я написала о нем «Трагический тенор эпохи», все очень возмутились и стали меня укорять: «Он великий поэт, а не оперная примадонна». Но ведь у Баха в «Страстях по Матфею» тенор поет самого Евангелиста». Выступая в таком же качестве, трагическое контральто Ахматовой поет партии всех гостей Поэмы, узнаваемых и безвестных, всех, кто оделил ее звуком своих голосов.
Качественно новый и адресат стихов. Поэма открывается тремя посвящениями, за которыми стоят три столь же конкретные, сколь и обобщенные и символические, фигуры: поэт начала века, погибший на пороге его; красавица начала века, подруга поэтов, неправдоподобная, реальная, исчезающая, как ее — и всякая — красота; и гость из будущего, тот, за кого автором и ее друзьями в начале века были подняты бокалы: «Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет». Играя грамматическими временами глаголов, Поэма принуждает прошлое возвратиться и будущее явиться до срока, так что они оба в миг звучания стихов оказываются в этом самом миге, но притом и увлекают его, как магниты, каждый в свою область. Это создает ощущение движения времени, движения не образного, а на уровне языка, то есть именно самому времени, его бегу адресована вся Поэма и всякое ее слово.
В разное время разным людям Ахматова показала или вручила прозаические заметки о Поэме, которым она придавала вид писем: «Письмо к NN», «Второе письмо». Литературный стиль их очень близок стилю прозы «Вместо предисловия», с какого- то момента неизменно входившего в текст Поэмы. Мне она передала «Что вставить во второе письмо»:
«1) О Белкинстве.
2) Об уходе Поэмы в балет, кино и т. п. Мейерхольд. (Демонский профиль).
3) О тенях, кот. мерещатся читателям.
4) «Не с нашим счастьем», как говорили москвичи в конце дек. 1916, обсуждая слухи о смерти Распутина.
5) …и я уже слышу голос, предупреждающий меня, чтобы я не проваливалась в нее, как провалился Пастернак в «Живаго», что и стало его гибелью, но я отвечаю — нет, мне грозит нечто совершенно иное. Я сейчас прочла свои стихи (довольно избранные). Они показались мне невероятно суровыми (какая уж там нежность ранних!), обнаженными, нищими, но в них нет жалоб, плача над собой и всего невыносимого. Но кому они нужны! Я бы, положа руку на сердце, ни за что не стала бы их читать, если бы их написал кто–нибудь другой. Они ничего не дают читателю. Они похожи на стихи человека, 20 л. просидевшего в тюрьме. Уважаешь судьбу, но в них нечему учиться, они не несут утешения, они не так совершенны, чтобы ими любоваться, за ними, по–моему, нельзя идти. И этот суровый черный, как уголь, голос, и ни проблеска, ни луча, ни капли… Все кончено бесповоротно. М. б., если их соединить с последней книжкой (1961 г.), эго будет не так заметно или может создаться иное впечатление. Величья никакого я в них не вижу. Вообще это так голо, так в лоб — так однообразно, хотя тема несчастной любви отсутствует. Как–то поярче — «Выцветшие картинки», но боюсь, что их будут воспринимать как стилизацию — не дай Бог! — (а это мое первое по времени Царское, до–версальское, до–растреллиевское). А остальное! — углем по дегтю. Боже! — неужели это стихи? Сама трагедия не должна быть такой. Так и кажется, что люди, собравшиеся, чтобы их читать, должны потихоньку говорить друг другу: «Пойдем выпьем» или что–нибудь в этом роде.
Мир не видел такой нищеты, Существа он не видел бесправней, Даже ветер со мною на–ты Там, за той оборвавшейся ставней.
Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с каким тяжелым ужасом вспоминаю ' Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру, кот. когда–то защищал князь Долгорукий–Роща (как сказано на доске над Воротами), а при первом взгляде на иконостас ясно, что в этой стране будут и Пушкин, и Достоевский.
И один Бог знает, что я писала: то ли балетное либретто, то ли киношный сценарий. Я так и забыла спросить об этом у Алеши Баталова. Об этой моей деятельности я подробнее пишу в другом месте.
Примечание
Единственное место, где я упоминаю о ней в моих стихах — это —
Или вышедший вдруг из рамы Новогодний страшный портрет
(Cinque IV)
т. е. предлагаю оставить ее кому–то на память.
Читателей поражает, что нигде не видны швы новых заплат, но я тут ни при чем».
Впервые в хор «чужие голоса» у Ахматовой сливаются — или, если о том же сказать по–другому: впервые за хор поет ахматовский голос — в «Реквиеме». Это не хор, сопутствующий трагедии, о котором она упомянула в Поэме; «Я же роль рокового хора на себя согласна принять». Разница между трагедией «Поэмы без героя» и трагедией «Реквиема» такая же, как между убийством на сцене и убийством в зрительном зале. Там у каждого своя роль, в том числе и роль античного хора, конец четвертого акта, пятый акт; здесь заупокойная обедня, панихида по мертвым и по самим себе, все — зрители и все — действующие лица.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: