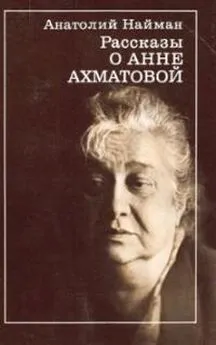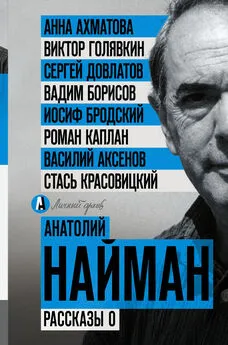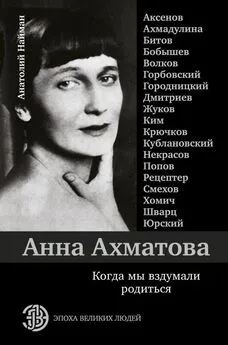Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой
- Название:Рассказы о Анне Ахматовой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- ISBN:5-280-00878-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой краткое содержание
Рассказы о Анне Ахматовой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Собственно говоря, «Реквием» — это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой описывают все декларации ее. Герой этой поэзии — народ. Не называемое так из политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт — вместе с ним, его часть. Ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее приемы — лобовые: «…для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов». И эта поэзия полна любви к народу.
Отличает и тем самым противопоставляет ее даже идеальной советской поэзии то, что она личная, столь же глубоко личная, что и «Сжала руки под темной вуалью». От реальной советской поэзии ее отличает, разумеется, и многое другое: во–первых, исходная и уравновешивающая трагедию христианская религиозность, потом — антигероичность, потом — не ставящая себе ограничений искренность, называние запретных вещей их именами. Но все это — отсутствие качеств: признания самодостаточности и самоволия человека, героичности, ограничений, запретов. А личное отношение — это не то, чего нет, а то, что есть и каждым словом свидетельствует о себе в поэзии «Реквиема». Это то, что и делает «Реквием» поэзией — не советской, просто поэзией, ибо советской поэзии на эту тему следовало быть государственной: личной она могла быть, если касалась отдельных лиц, их любви, их настроений, их согласно разрешённой официально формуле «радостей и бед». Когда Ахматову мурыжили перед Италией с выдачей визы, она гневно говорила — в продолжение того, что «они думают, я не вернусь»: «Желаю моему правительству побольше таких граждан, как я». На «граждан» падало ударение такой же силы, как на «я». Подобным образом в двустишии:
и если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ, —
забившийся В безударную щелку «мой» весит столько же, сколько громогласный «стомильонный». Те, кто обвинял поэзию Ахматовой в «камерности», дали, сами того не ведая, начало трагическому каламбуру: она стала поэзией тюремных камер.
Когда «Реквием» в начале 60‑х годов всплыл после четвертьвекового лежания на дне, впечатление от него у имевшей возможность прочесть публики было совсем не похоже на обычное читательское впечатление от ахматовских стихов. Людям — после разоблачений документальных — требовалась литература разоблачений, и под этим углом они воспринимали «Реквием». Ахматова это чувствовала, считала закономерным, но не отделяла эти свои стихи, их художественные приемы и принципы, от остальных. Когда за границей собеседник стал неумеренно восторгаться ими как поэтическим документом эпохи, она охладила его репликой: «Да, там есть одно удачное место — вводное слово „к несчастью", „там, где мой народ, к несчастью, был"», — напомнив, что это все–таки стихи, а не только «кровь и слезы». И, например, в восьмом стихотворении — «К смерти» — строчка «Ворвись отравленным снарядом», по всей видимости, указывает на все то же шекспировское poison'd shot, отравленное ядро клеветы, то есть донос, а не, скажем, газовую атаку времен первой мировой войны.
Тогда, в 60‑е годы, «Реквием» попал в один список с самиздатской лагерной литературой, а не с частично разрешенной антисталинской. Ненависть Ахматовой к Сталину была смешана с презрением. Когда однажды речь зашла о молодом поэте, завоевавшем репутацию «непримиримого» и тратившем все время и силы на поддержание этой репутации, она сказала: «Обречено. Постройка рушится в одно мгновенье- Сталин весь день слушал «ура» и что он корифей и генералиссимус и как его любят, а вечером какой–нибудь французик по радио говорил про него: «Этот усач…» — и все начинай сначала».
«Один день Ивана Денисовича» ей принесли еще отпечатанным на машинке, еще под псевдонимом Рязанский. Она говорила каждому: «нравится, не нравится — не те слова: это должны прочитать двести миллионов». О Солженицыне рассказала через несколько дней после их знакомства: «Ему сорок четыре года, шрам через лоб у переносицы. Выглядит на тридцать пять. Лицо чистое, ясное. Спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости. С огромным достоинством и ясностью духа. Москву не любит, Рязани не замечает, любит только Ленинград. Каково было мне — знаете, как я отношусь к городу–герою! — моя ли, его ли вина, потом рассудят. Прочитала „сиделок тридцать седьмого" 3. Ои сказал: „Это не вы говорите, это Россия говорит". Я ответила: „В ваших словах соблазн". Он возразил: „Ну что вы! В вашем возрасте…" Он не знает христианского понятия. Я ему сказала: „Вы через короткое время станете всемирно известным. Это тяжело. Я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это". Он ответил: „Меня не заденет. Я‑то переживу"».
В 50‑е и в начале 60‑х «пытки, казни и смерти» предшествовавших десятилетий обозначались официальной формулой «культ личности», а обиходной — «тридцать седьмой», по году пика массовых репрессий. Ахматова, в зависимости от направления беседы, могла употребить и ту и другую, однако в серьезном разговоре называла это время только «террор». Оно началось для нее задолго до и кончилось много позже тридцать седьмого. Она рассказывала (и записала) историю, которую называла «Искры паровоза», о том, как в августовский вечер 1921 года в поезде из Царского в Петроград почувствовала приближение стихов, вышла в тамбур, где стояла группа красноармейцев, достала папиросу, прикурила ее под их одобрительные замечания от жирных искр, летевших с паровоза и садившихся на поручни площадки между вагонами, и под стук колес сочинила стихотворение на казнь Гумилева, знаменитое впоследствии «Не бывать тебе в живых». Когда однажды кто–то из близких сказал, что у ее сына трудный характер, она ответила резко: «Не забывайте, что его с девяти лет не записывали ни в одну библиотеку как сына расстрелянного врага народа». А вспоминая о периоде после постановления 1946 года, сказала: «С того дня не было ни разу, чтобы я вышла из Фонтанного дома и со ступенек, ведущих к реке, не поднялся человек и не пошел за мной». Я по молодости спросил: «А как вы знали, что он за вами идет, — оборачивались?» Она ответила: «Когда пойдут за вами, вы не ошибетесь».
В конце 1963 года, то есть в несоизмеримо более благополучное по сравнению со сталинским время, началось дело Бродского. В ноябре в ленинградской газете был напечатан фельетон «Окололитературный трутень», выдержанный в лучших традициях клеветы и гонительства. Я тогда жил в Москве, мне привезли газету назавтра, и в то же утро мы с Бродским, который незадолго до того также приехал в Москву, встретились в кафе. Настроение было серьезное, но не подавленное. В середине декабря Ахматова пригласила к себе Шостаковича, он был депутатом Верховного Совета как раз от того района Ленинграда, где жил Бродский. Меня она просила присутствовать на случай, если понадобится что–то уточнить или дать справку, сам Бродский уже уехал из Москвы. Шостакович, с несколькими тиками и со скороговоркой, в которую надо было напряженно вслушиваться, главным образом свидетельствовал Ахматовой свое глубокое и искреннее почтение, о деле же говорил с тоской и безнадежно, мне задал лишь один вопрос: «Он с иностранцами не встречался?» Я ответил, что встречался, но,.. Он, не дослушав, выстрелил: «Тогда–ничего–сделать-нельзя!» — и больше уже этой темы не касался, только уходя сказал, что «узнает» и все, что от него зависит, сделает. В феврале Бродского на улице впихнули в легковую машину и отвезли в камеру при отделении милиции. Через несколько дней его судили и послали на экспертизу в сумасшедший дом. В марте, на втором суде, его приговорили к ссылке за тунеядство и отправили в Архангельскую область в деревню. Все это время Вигдорова, Чуковская и еще два–три десятка людей, включая Ахматову, делали попытки его спасти. Не то Ахматова, не то Чуковская, выслушав пришедшие из Ленинграда после ареста сведения, сказала: «Опять — «разрешено передать зубную щетку», опять поиски шерстяных носков, теплого белья, опять свидания, посылки. Все как всегда».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: