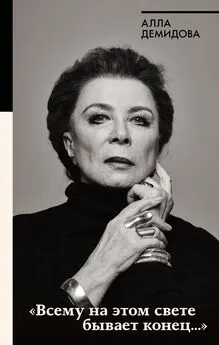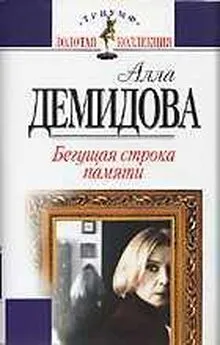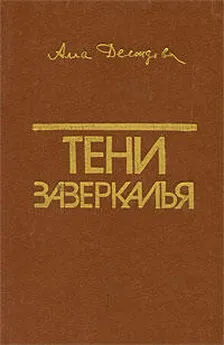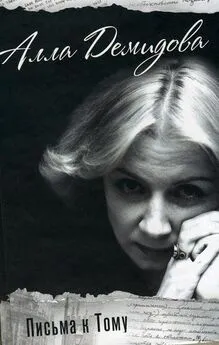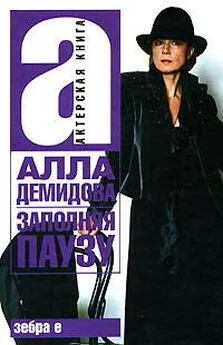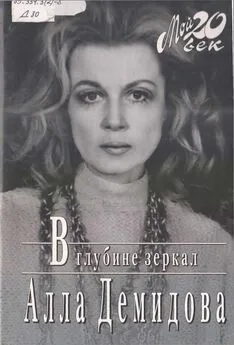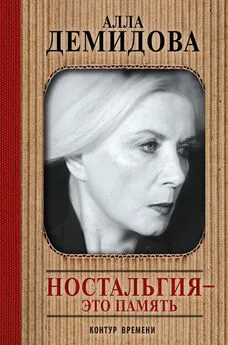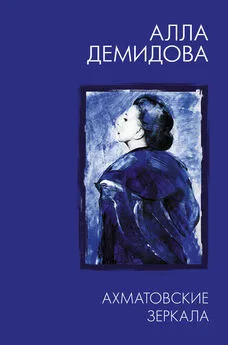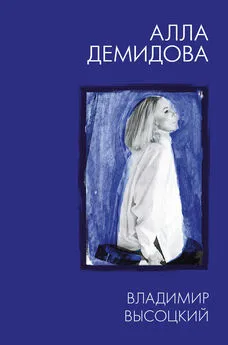Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот среди всех этих разговоров Варя приносит для Раневской телеграммы из Парижа (не успела приехать, и уж две телеграммы!). Все знают, что это от любовника. Раневская быстро прячет эти телеграммы где-то у себя в карманах, не читая, и Гаев, чтобы отвлечь присутствующих от этого конфуза: «А ты знаешь, Люба!» – и не знает, что дальше говорить, пока на глаза не попадается этот шкаф («Шкафик!»). И гаевский монолог про шкаф. Гаев из говорунов конца XIX века, которые любили «пофилософствовать».
Просят Шарлотту показать фокус, все рассаживаются, чтобы смотреть, а она: «Не надо. Я спать желаю». Лопахин уходит и не уходит. Наша обычная привычка больше договаривать на пороге. Не выдерживает Варя и кричит ему: «Да уходите же наконец!»
Когда появляется Петя Трофимов, Раневская его не узнает, а когда вспоминает, что он был воспитателем Гриши, с ней происходит истерика: «Гриша мой… мой мальчик… Гриша, сын». На голом месте эту истерику не сыграть. Надо все время до этого внутри держать напряжение, а чтобы его никто не заметил – ерничать. А тут прорвалось! Как плотина! Ужас! У всех на виду! Она старается спрятаться за деревьями, но они маленькие – не спрячешься. Но она сильная! Взяла себя в руки и жестко, опять чуть ерничая: «Там Аня спит, а я… поднимаю шум…» И как будто Петя виноват в ее истерике, с укором ему: «Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?»
14 апреля 1975 . Репетиция «Вишневого сада» с Эфросом в малом репетиционном зале. Начали с Фирса – Ронинсона.
ЭФРОС. «У меня есть такая дурацкая привычка отказываться от того, что сразу понятно. Надо забыть, что он старик. Мы успеем еще это осознать. Бывает, что и старики „летают“, а у него господа приехали. Сейчас мы попробуем, чуть утрируя, потом крайности отменим. Фирс кричит на Дуняшу: „Ты! А сливки!“ Это они все старики, а он молод. Энергичен больше, чем они. Сбросьте 40 лет. Нет старости, вы никогда больше не умрете. Потом остановка. Пауза. „Барин тоже ездили в Париж на лошадях“ – как быстро прошло время! Он стоит, думает, долго, долго. Выход Раневской, Гаева. Аня недовольна мамой, знает ее глупости и не хочет в этом участвовать. Раневская успевает извиниться перед ней. Статика тогда здорово сыграет, когда вы к ней будете возвращаться. Но до этого должна быть динамика. Перед дочерью почти унижайтесь. Возьмите очень бурно, гротесково бурно. Гротеск в роли Раневской очень будет кстати. Не бойтесь его».
В конце апреля мы перешли на большую сцену. Там уже стояла декорация. В «Вишневом саде» действительно все крутится вокруг вишневого сада. Как в детском хороводе – а сад в середине. Левенталь сделал на сцене большой объемный круг – такую «клумбу-каравай». На этой клумбе вся жизнь. От детских игрушек и мебели до крестов на могилах. Тут же и несколько вишневых деревьев (кстати, и в жизни, когда они не цветут, они почти уродливы – маленькие, кряжистые, узловатые). И – белый цвет. Кисейные развевающиеся занавески. «…утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету». Озноб. Легкие белые платья. Беспечность. Цвет цветущей вишни – символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, – символ смерти. Круг замыкается.
То, что, казалось, мы уже нашли, репетируя на малой сцене, – на большой все потерялось. Начинаем с начала первого акта. Опять Эфрос ходит вместе с нами по сцене и за нас читает текст. Главное – очень внимательно за ним следить и ничего не упустить. Теперь я понимаю, что первый акт – это вихрь бессмысленных поступков и слов. Словами прикрывают истинное страдание. Но иногда сдерживаемое страдание вырывается криком: «Гриша! Мой мальчик!.. Гриша!.. Сын! Утонул!..» И сразу: «Для чего? Для чего?!» – это спрашивать надо очень конкретно – почему именно на меня такие беды. А потом, смахнув слезы, почти ерничая: «Там Аня спит, а я поднимаю шум».
Нас, исполнителей, потом будут упрекать в однозначности, в марионеточности, да и сам Эфрос в своей книжке будет вздыхать об объемности ролей и где, мол, в Москве взять актера на роль Гаева, который сыграл бы объемное? Разве что Смоктуновский… Потом мы увидим Смоктуновского в роли Гаева в телевизионном спектакле, а Эфрос уже настолько привыкнет к нам, что скажет: не нужен нам никакой Смоктуновский, Виктор Штернберг играет Гаева прекрасно и точно. Объемно играть можно, но сразу теряется ритм. Ведь объем натурализма «Вишневого сада» в Художественном театре, как известно, не нравился Чехову.
Андрей Белый о пьесах Чехова писал: «натурализм, истончившийся до символа». А разве можно играть объемно символ? Сразу скатишься в быт. «Вишневый сад» – пьеса не о дворянах и не об интеллигентах, а о марионетках. Только марионеточный водевиль усложняется темой смерти. Эту формулировку я для себя придумала в начале репетиций. Позже, спустя несколько лет, мы стали играть более объемно, но из спектакля что-то ушло.
Пьесы Чехова не реалистичны, хотя, может быть, он об этом не думал. Его пьесы отличаются от его рассказов, или от его «Сахалина», например, где все «правда».
Как это играть? Когда за словами идет совершенно другая жизнь, которая пробуждает в наших душах какие-то скрытые страхи, ожидания конца, свойственные каждому разумному человеку.
«Вишневый сад» – пьеса о том, как трудно, как невозможно принять так называемую правду жизни. Это пьеса о бессознательном желании человека ускользнуть от бытовых вопросов, от реальности, от страха смерти.
Мы сочувствуем нелепым и слабым героям «Вишневого сада», потому что сами нелепы и слабы перед жизнью. Пьеса о растерянности перед настоящим и беспомощности перед будущим. Зависимость от непонятных, могущественных сил. И это порождает страх перед жизнью.
Мейерхольд написал Чехову в письме: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского, и режиссер должен уловить ее слухом, прежде всего. В третьем акте на фоне глупого топтания – вот это топтанье надо услышать – незаметно для людей входит Ужас».
Пьеса написана в начале века, когда разрушалась старая жизнь, но ведь ни у кого нет «опыта будущего». Будущее всегда неясно и тревожно.
Станиславский послал восторженную телеграмму Чехову по поводу «Вишневого сада»; но, как говорят, совершенно не понял – почему эту пьесу Чехов назвал комедией; и говорил, что опять выйдет, как в «Трех сестрах», «рас-про-трагедия». Чехов негодовал: «Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и готов дать какое угодно слово, что оба ни разу не прочли внимательно моей пьесы».
Пьеса начинается с ожидания приезда владелицы вишневого сада. Причина ее приезда нерадостна. Дела пришли в такой упадок, что имение должно быть продано на торгах. Назначена даже дата торгов. Она приехала ранней весной, торги будут в конце августа. Казалось бы, время есть, чтобы что-то сделать, но она всячески ускользает от принятия какого-либо решения. Раневская сознательно бежит от вопросов, которые требуют перехода к «принципу реальности».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: