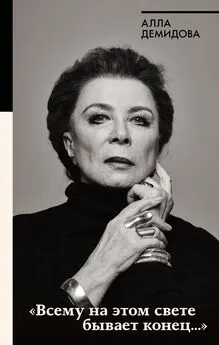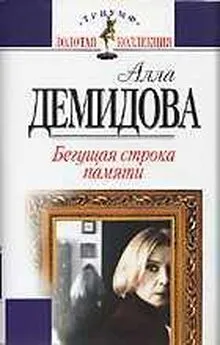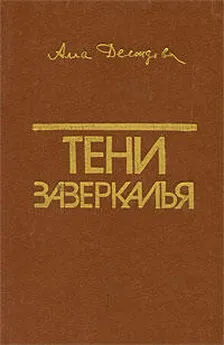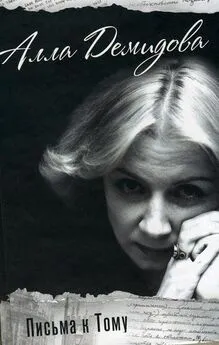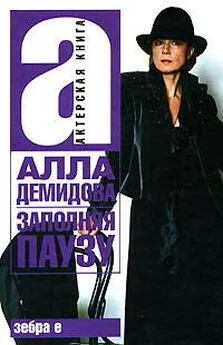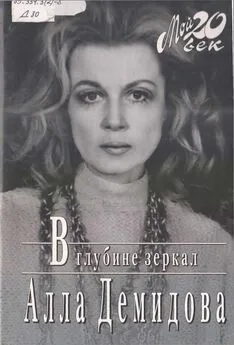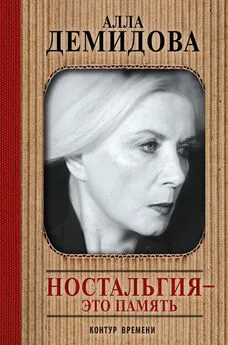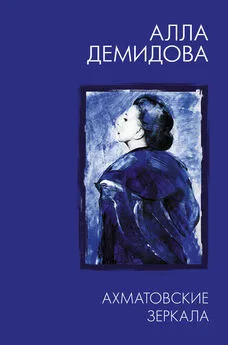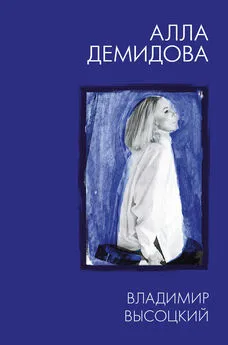Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На такой-то сцене жизни режиссер и выстраивает чеховскую драму в форме горькой комедии, группируя вокруг главной героини, Раневской, галерею персонажей, не имеющих ни реального значения, ни достоинства для драматического действия, ни осознания реальности ситуации, в которую они попали, часто очерченных лишь банальными, чисто физическими чертами.
И посреди этой толпы, как дух, как медленно колышущаяся лента, как ледяное изваяние, движется Раневская, чье лицо, хотя она редко и мало говорит, выражает в кристаллизованной форме сознание о крахе своей жизни, о бренности своего существования, о бесполезности любой попытки сопротивления. Раневскую играет поистине выдающаяся актриса А. Демидова с искоркой в глазах, как у Греты Гарбо, с шармом Жанны Моро, в котором переплетаются интеллект и эротика, актриса, несущая в себе несравненное внутреннее богатство. Когда она доминирует на сцене, это потрясающий момент сценического искусства, это – вершина нынешнего БИТЕФа.
Что еще сказать о спектакле Эфроса? То, что, если исключить игру Демидовой, это спектакль открыто антипсихологический, он несет печать легкого издевательства над всем, что мы подразумеваем под «славянской душой», и иронии по поводу интеллектуальных и эмоциональных деклараций, через которые она выражается, и что все ее персонажи служат чем-то вроде прожекторов, с помощью которых освещается судьба Раневской.
Но все же остается открытым вопрос, не обедняет ли Чехова такая трактовка, сводящая весь сюжет к драме Раневской, не изымается ли таким образом из «Вишневого сада» то, что в нем, наверное, важнее всего: пафос перемен, последовательно выражающийся различным образом в жизни других персонажей.
Анатолий Кудрявцев
Из статьи об итогах БИТЕФа [5] Svjetlost i sjene / Пер. с хорватского Н.М. Вагаповой // Свободная Далмация. Split. 1985, 6 сентября.
Приступая к разговору о «Вишневом саде», следует встать. Это был спектакль, наполненный кружением снежинок, полетом и щебетанием невидимых птиц. Эфрос отмел все традиционные исходные точки и отбросил все предрассудки. Он ввел прием стилизации, благодаря которой образы поднялись до символов и все вместе спели романс русской тоски. В этом спектакле точнейшему измерению был подвергнут лунный свет и были зарегистрированы невидимые вздохи душ.
Виолетта Иверни
«Вишневый сад», «Вишневый сад»… [6] Русская мысль. 1985.
Спектакль Театра на Таганке в Париже
«Вишневый сад» А. Эфроса, «Вишневый сад» Театра на Таганке – Чехов или не Чехов?
Только это и слышишь в фойе, среди мельтешащей толпы – мельтешащей взволнованно, нервно, даже кое-где и оскорбленно, поскольку толпа состоит в большой степени из русских, а русские просто не в состоянии воспринимать что-либо (зрелище в особенности) иначе, как персональный подарок или личное оскорбление. Дружно сходятся на том, что – не Чехов, и продолжают бурлить – уже с чувством глубокого удовлетворения от того, что угадали, что попали в самое яблочко.
Так что и мне теперь невозможно начать разговор о спектакле с другого конца. Давайте поразмышляем – Чехов или не Чехов? И этот вопрос неизбежно потянет за собой другой: театр или не театр? Чем отличается театр от драматургии? Где кончаются права драматурга и начинаются права режиссера – и еще целый поток вопросов предательски захлестнет нас, как только мы зададим себе этот вопрос: Чехов или не Чехов?
Что такое «Чехов», это вам каждый ребенок скажет: импрессионистическая манера письма, тонкий запах увядания, легкий воздушный налет печали, звук лопнувшей струны, «настроение», подтекст – и что там еще? Стихи в прозе, «Осень» Левитана, тягучие шлейфы платьев начала века, медленный поворот головы: скупое движение, почти не существующее, почти не произведенное, так что любое изменение положения предмета или человеческого тела в пространстве воспринимается как событие, как разворот ситуации. Воздух недвижен, фигуры недвижны – и недвижны слова, в которых много странного, вовсе не подходящего к моменту, или скорее – подходящего к любому моменту необычайному, недейственному, несценически долгому – к абсолютному моменту размышления, воспоминания.
Это верно для всех чеховских пьес, а для «Вишневого сада» в особенности. (Событие из важнейших: «Епиходов кий сломал».) Он весь построен на том, что было, а не на том, что есть, потому что на самом деле ничего и нет: нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя вернуться в собственное прошлое, в себя прошлого. Так что возвращение Раневской – попытка заранее обреченная, настолько же, насколько заранее обречена попытка сохранить вишневый сад или, вернее, «сохраниться» при вишневом саде – его нахлебниками, иждивенцами воспоминаний.
В спектакле Эфроса громадная подушка в центре площадки – легко прочитывающийся символ «сидения», неподвижности, созерцания, восхитительного, сладостного, изысканно-волнительного и безысходного. Она же – кладбище воспоминаний – и не только прошлого, но и будущего тоже, ибо здесь никакое движение, никакая собственно жизнь невозможны. Чехов это или не Чехов? Ну конечно, Чехов. Это умирание написал Чехов, Эфрос его не придумал. Эфрос его только показал – в собственной манере сценического письма.
Белая одежда сцены, белые костюмы, белыми флагами весны и поражения развевающиеся занавеси на окнах: цвет чистоты – и пустоты, цвет начала – и конца, подвенечного платья – и савана, цвет праздника – и смерти. Чехов или не Чехов? Ну конечно, Чехов! (Кстати, тот же прием белого спектакля применил в своем «Вишневом саде» Джорджо Стрелер лет десять тому назад.)
У чеховского подтекста в этом спектакле есть материальное выражение: весь ансамбль его сценического оформления, от декораций до знаменитого «звука лопнувшей струны», превращенного здесь в ржавый скрежет (не просто разрыв, слом, нарушение гармонии, но вторжение чего-то дикого, безобразного и чужого, с чем примириться мерзко, но необходимо, ибо это факт, независимо от героев существующий). Это резче, это прямолинейнее, чем у Чехова, как и все остальное. И откровенность приема, его вызывающее упрямство как бы добавляет к спектаклю еще одного героя: режиссера. Да и не его самого, собственно говоря, но его Чехова, а еще точнее – право на иного, другого Чехова, лишенного слезливой умилительности, которую сам писатель так ненавидел (и всем это было известно, только никто не понимал, почему это его так раздражало и чего, собственно, он, Чехов, хотел от актеров взамен).
Эти нежные полутона, этот флер, эти интонации на грани слез – не были ли они у Чехова атрибутами могилы, ее сладким запахом, а отнюдь не тихой песней любви? Да и какой любви? Где, когда писал Чехов любовь? Любовь осмеянную, любовь ненужную, любовь, вечно убегающую от самой себя, любовь водевильно-глупую, или жалкую, или разрушающую, или обреченную на разрушение – да, такую любовь он писал. Любовь-силу, любовь-победу, любовь-гармонию, любовь-вершину пирамиды – он не писал, да он никогда и не видел ее, и не мог видеть, и воспринимать не мог иначе как пошлость. Ибо все в себе самом завершенное, законченное, приведенное к созидательному, здоровому финалу, и не могло не быть пошлостью для него, умирающего, оставленного умирать, ждавшего смерти, видевшего всю жизнь свою одно только разрушение вокруг, сдачу и поражение человеческого тела и великие слабости человеческого духа. Он был врач, Чехов. Долго умирающий врач. И писавший собственное умирание художник.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: