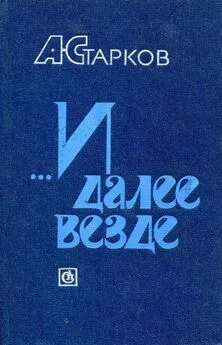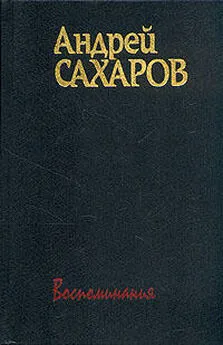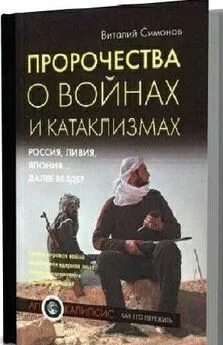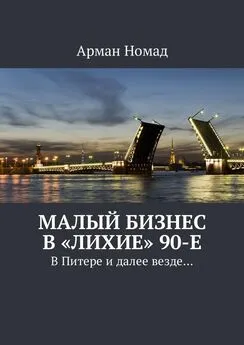Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(В скобках скажу, что Яков Исидорович тоже довольно часто бывал у нас в редакции. Он приходил к Мише с толстым рыжим портфелем, из которого вытряхал и раскладывал перед придирчивым Мишиным взором ворох размашисто исписанных листков на выбор для очередной публикации — листопад сведений, информации, новостей из самых различных отраслей науки… По толщине портфеля, такого же рыжего, по обилию обрушивавшихся на газету материалов соревноваться с Перельманом мог лишь Виктор Николаевич Сорока-Росинский, Викниксор, как он подписывался. Под этим именем он фигурирует в качестве главного действующего лица «Республики Шкид», заведующего Школой социально-индивидуального воспитания имени Достоевского (проще — школой для малолетних правонарушителей, беспризорных), описанной в прогремевшей в конце двадцатых годов повести ее воспитанников Г. Белых и Л. Пантелеева. Книга затем была на долгие годы забыта и обрела вторую громкую жизнь уже в послевоенных изданиях. И третью, еще более громкую, в сравнительно недавнем фильме, где Викниксора темпераментно, талантливо, но совсем непохоже на подлинного Виктора Николаевича изображал артист Сергей Юрский. В специальной литературе имя В. Н. Сороки-Росинского все чаще ставится в один ряд с Макаренко, Сухомлинским, печатаются его труды по педагогике, разрабатывается его наследие в этой области. Но я нигде не встречал упоминания о работе Викниксора в «Ленинских искрах». Нет, не на школьные темы он писал, таких публикаций я в комплектах не нашел. А вот очерков, корреспонденции, репортажей об Урало-Кузнецком комплексе, о поисках угля в Ленинградской области, в которых участвовал автор, о его встрече с Мичуриным, об освоении Арктики, о будущих гидростанциях, об уже проложенном Турксибе и тому подобных материалов за подписью «Викниксор» в газете полно. И я обращаю на них внимание викниксороведов. Сам же только приведу начало, первый абзац очерка «Великий Северный путь», чтобы читатель почувствовал, как хорошо писал этот человек:
«Природа довольно бестолково распорядилась с северной половиной Азии. Вместо того, чтобы защитить ее горами от полярных ветров, она поместила эти горы на юге, загородив ими тепло. Там, где жарко светит солнце, оно устроило пустыни Туркестана, а угрюмый север покрыла роскошными лесами — тайгой. Многоводные реки направила не в теплые края, а уперла их в ледяные стены Северного полярного моря».)
Со вторым моряком мама познакомилась еще до «балкона», до переезда со Спасской на Моховую. Впервые я попал на эту улицу не с отцом, когда он подыскивал квартиру и брал нас с Валькой, а с мамой. В первую же неделю нашего пребывания в Петрограде она повела меня в только что открывшийся на Моховой Театр юных зрителей. Зрительский опыт был у меня крохотный: в Саратове — цирк, спектакль «Синяя птица» и балетное представление, не оставившее названия в моей памяти и вообще не нашедшее отклика в мальчишечьей душе; с тех пор балет так и не вошел в число любимых мною искусств… И вот идем в новый петроградский театр. Он открылся в феврале, мы идем в мае. И, следовательно, я могу считаться нынче одним из тюзовских аборигенов. Это слово означает «первожители», а мы и были не зрителями, а жителями этого театра. Всех пришедших на спектакль встречал еще в театральном подъезде наверху широкой лестницы, ведущей в гардероб, создатель и директор ТЮЗа «дедушка Брянцев», как мне его назвала мама и как я теперь знаю — 39-летний человек при русой бороде — она быстро совсем побелеет — и уже изрядной лысине, старательно прикрываемой флотской фуражкой. Той самой, в которой он будет много лет и по нескольку раз в день проходить мимо маминого балкона из дома в театр и из театра домой, а жил он наискосок от нас в доме 10 по улице Чайковского, уже известном читателям как здание бывшего австрийского посольства… Читая вышедшие недавно посмертным изданием «Воспоминания» народного артиста СССР Александра Александровича Брянцева, вижу, что с детства, с юности, когда он ходил по Финскому заливу рулевым на парусно-гребной шлюпке «Черепаха», когда штурманским учеником прошел на океанском «Хабаровске» вокруг Европы из Одессы в Петербург, а зимой нанимался в суфлеры, всю жизнь с той поры уживались в нем две души — морская и театральная. Да какое там уживались — соперничали, противоборствовали; театральная, пользуясь своим могуществом, всячески оттесняла, отталкивала упрямую соседку и так и не сумела от нее избавиться, не смогла сбросить фуражку с якорьком на околыше, отвлечь от судейства на регатах. В случае каких-то неудач на сценическом поприще, в моменты печального настроения, душевных спадов средство излечения от сего было единственное — двухмачтовая парусная байдарка «Алёнушка». Она и в последней дневниковой записи, сделанной 77-летним Брянцевым за два месяца до смерти:
«1 августа. Жарко. До семи часов вечера дождя не намечалось, и я решил пройтись на «Аленушке» до устья Черной речки и обратно. Туда-то я прошел шикарно — одним правым бейдевиндом, а обратно вышло хуже. Едва я вошел в устье Черной, как поднялся сильный шквал, прибивший «Аленушку» к берегу. Оказывается, в этот день над Финляндией пронесся смерч, принесший много бед там. Я, видимо, попал в его побочные действия. Вода вокруг «Аленушки» как бы закипела, волны достигли почти аршинной высоты. Меня поливало с головой. Я приткнулся к болотистому берегу и с трудом убрал паруса, оставив один стаксель, чтобы быть видным для ищущих меня (в чем я не сомневался). В крайнем случае я был готов переночевать в байдарке. Тем более, что шквал стал стихать. Наконец за мной пришла моторка, прибуксировавшая «Аленушку» к родным берегам, где меня с тревогой ждали родные и друзья, которым я, не желая, доставил много беспокойства. Думал, что этот катер со спасалки. Оказалось — частная инициатива, а спасатели меня «не нашли», решив, что «этот старик сам выберется». Спасибо им хоть за высокую оценку моей квалификации…»
Три личности, появлявшиеся в мамином балконном поле зрения, возникают в моей памяти всегда вместе, неотделимые друг от друга, хотя никакого отношения друг к другу не имели. Но стоит мне вспомнить одного из них, как тут же пристраивается рядышком второй, вослед спешит третий. И, подчиняясь причудам памяти, я вынужден «упаковать» всех троих в единый абзац.
Вижу Мишеньку, как звала его вся улица, взрослого ребенка лет сорока. Таких теперь обзывают по-научному дебилами. Тогда подобным определением не пользовались, говорили запросто: дурачок. И всей улицей любили, жалели, никому в обиду не давая, и первыми его заступниками были мальчишки, которые обычно насмехаются над юродивыми. А Мишеньку оберегали от напастей, откликаясь на его беззащитность, на желание всем помочь и угодить. К каждому встречному, кого и не знал, впервые увидел, он обращался с ласковым словцом и всегда по-разному. Долговязому говорил: «Здравствуй, мой стройненький!», рыжему: «…мой светленький!», с родимым пятном на щеке: «…господом богом замеченный!» И жил-то он не на Моховой, приходил откуда-то со стороны, издалека, чуть ли не с Васильевского острова, являлся ранним утром, до позднего вечера трепыхаясь в трудах и заботах для пользы общества. То таскал ящики в угловой продмаг, называвшийся почему-то «Красная звезда». То сторожил возле этого же магазина сразу несколько колясок с младенцами, оставленными ему на попечение: они лежали тихонечко, безмолвно, спокойные при Мишеньке за свою сохранность. То, заменяя ушедшего обедать газетчика, сидел в киоске торжественный, преисполненный ответственности за порученное дело. С таким же тщанием помогал воспитательнице детсада перевести через перекресток свой шумливый косячок. Словом, Мишенька был неотъемлемой принадлежностью нашей улицы, на которой, говорят, провел и всю блокаду. И остался жив, что́ и я уже могу засвидетельствовать: первый человек, встреченный мною на Моховой, когда я приезжал в Ленинград летом 1944 года, был Мишенька, толкавший тачку с битым кирпичом из разрушенного дома — от старания у него сползала густая слюна на подбородок, он сразу узнал меня и, не замедляя хода, ласково приветствовал: «Здравствуй, морячок!» Выжил Мишенька… А человек, казалось бы, более других подготовленный к тяготам блокады, не пережил ее. До войны он в любой сезон, в любую погоду, даже в самые морозы, бегал на работу и с работы с саквояжиком в руке посередине улицы в одних трусах и майке, босой. Зимой дважды по дороге, туда и обратно — он работал инженером на каком-то из заводов Выборгской стороны — купался в невской проруби возле Литейного моста… Третий, кого моя память присоединила к этому ряду, несмотря на всю их несхожесть, человек неопределенного возраста с бледным пергаментным лицом, редко появлявшийся на улице, тоже в любой сезон и любую погоду, даже в жаркий июльский полдень, не менял своего облачения, боярской шубы на собольем меху и такой же шапки. Это был известный историк-академик, знаток Древней Руси.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: