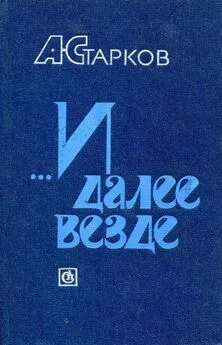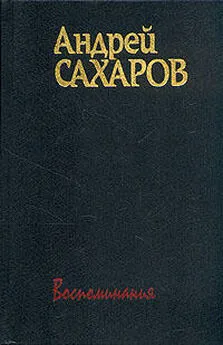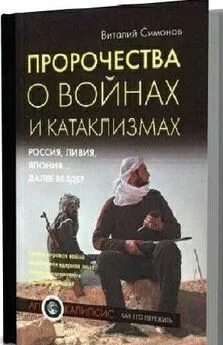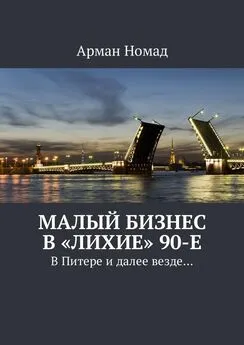Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот что это был за «трест АБД». Позже, после разоблачительной статьи в журнале «Большевистская печать», он поблек, сник и вскоре рассыпался. Но в пору, о коей я пишу, он еще находился в полной мощи, и соревноваться с ним было практически бессмысленно. Для всех, кроме тихого, застенчивого Р. Он упрямо делал свое дело. И это тем более удивительно, что репортеров, как известно, ноги кормят, а Р. сильно хромал, припадая на правую ногу. Раз в неделю, в одно и то же время, он появлялся в длинном темном коридоре здания на Фонтанке, 57, где когда-то, при царизме, размещалось пресловутое, мрачной памяти Третье отделение, сыскное, а при Советской власти расположилось большинство редакций ленинградских газет, в том числе и «Искорки». Он появлялся и разносил свои заметки. Они были всегда любопытны, свежи по тематике, довольно бойко написаны с точным учетом специфики и интересов каждой редакции. Одно для утренней «Красной газеты», другое для вечерней, одно для комсомольской «Смены», другое для «Крестьянской газеты». Как правило, попадал он в «яблочко» и нашей мишени. Причем «стрелял» с самых разных направлений: из Зоологического сада, из Ботанического, из общества филателистов, из Географического общества, из Военно-морского музея, из Русского, из кинопроката, с ипподрома. Да, принес с ипподрома забавную заметку про экскурсию школьников. Пришли на конюшню, понравилась лошадка, спрашивают жокея: как называется? Он говорит: «Как называется», вроде переспрашивает, они повторяют: как называется? И снова он говорит: «Как называется». Оказывается, так и называется: «Как называется». «Трест» ужасно раздражался, гневался на Р., всячески пытался его скомпрометировать. Все тщетно: маленький, хроменький, он был неуязвим, живуч и непотопляем.
В 1938 году, осенью, я тоже охромел, правда, не навсегда, но на длительное время.
Случилось это при обстоятельствах, которые изложу сейчас коротко, собираясь еще к ним вернуться.
Ледокол «И. Сталин», только что построенный на Балтийском заводе, флагман арктического флота, шел в свой первый рейс — в высокие северные широты. Там, зажатые льдами близ Новосибирских островов и уносимые все выше, дрейфовали почти уже год три ледокольных парохода — «Седов», «Садко» и «Малыгин», — которым грозила вторая зимовка. Их нужно было выручать. К ним подобрался испытанный выручальщик «Ермак», вытащил, вывел за собой «Малыгина» и «Садко», а «Седову» со сломанным рулевым управлением, да и сам поколоченный и покалеченный торосами, помочь при всем старании не смог. На помощь «Седову» и был послан флагман. Вел его капитан Воронин, командовавший прежде и «Седовым», и «Сибиряковым», и «Челюскиным», и «Ермаком», человек, чьи жизнь и плавания еще ждут большой книги. А пока — только маленький эпизод из нашего похода.
В море Лаптевых попали в густейший туман, в мерзопакостную сырость. Решили приблизиться для ориентировки к берегу, шли по радиопеленгам, по счислениям. Штурмана докладывали их Воронину, не покидавшему ходового мостика. По расчетам, до острова Большевик оставалось 100 миль. «Мы ближе, — сказал Воронин, не глядя на прокладку, на карту. — Проверьте-ка цифры». Пересчитали — 100 миль. «Нет, — повторил Владимир Иванович. — Ближе! Вон гляньте, пуночка села на поручень. Она так далеко в море никогда не залетает, у нее свое счисление, свои точные пеленга. Мы по ним и пойдем». И оказался прав вместе с птахой, знакомой ему с поморского рыбачьего детства. До берега не было и половины пути, начисленного штурманами: ледокол снесло течением.
Флагман спешил к «Седову», которого отнесло уже за 83-ю параллель. Отнесло в дрейфе. А в свободном плавании таких широт никто еще тогда не достигал.
«От острова Котельный, — пишет мне из Ленинграда мой друг Сан Саныч (Александр Александрович Гнуздев, капитан дальнего плавания, тогдашний наш 2-й штурман), — мы пошли в сравнительно легких льдах напрямик на север примерно по меридиану 130° по радиопеленгу «Седова», надеясь быстро подойти к нему. Но вскоре встретили тяжелый лед. Продвижение резко замедлилось, стали то и дело застревать. Шел напряженный обмен телеграммами с Москвой, с руководством Главсевморпути. Мы подробно докладывали обстановку… Постепенно доползли до широты 83°, пересекли ее. И остановились в ледяном поле, милях в 60 от «Седова», по чистой воде — пустяки, а тут — самые трудные, может быть, и непреодолимые мили. Стоим сутки, дожидаясь распоряжений из Москвы. Воронин нервничал, ворчал: «Не пускают…» Он считал, что есть шанс пробиться. Но можно было и московское начальство понять: сдерживало имя ледокола. Было бы другое название… А застрять и, обезуглившись, зазимовать, угодить в долгий дрейф с таким именем на борту?! Разрешить пойти на подобный риск начальство, что называется, не рискнуло. И нам приказали возвратиться на юг».
Пока мы стояли в ожидании, и случился казус со мной.
Корабельный кок выбросил за борт, на лед, банки из-под мясных консервов, замусорил, считайте, центральный арктический бассейн. На запах съестного выполз из полыньи огромный моржище, видно, на разведку, чтобы повести за собой стадо. Он не успел как следует разнюхать обстановку, как был настигнут пулей. Ее послал из винтовки с мостика Воронин. И те, кто находился на палубе, бросились к штормтрапам, свисавшим с борта. Чтобы добить раненого зверя, отползавшего к полынье, не дать ему уйти. Среди кровожадной публики очутился и я. В азартном стремлении всех опередить, я, минуя штормтрап, сиганул через фальшборт с почти трехметровой высоты. Пригнулся в прыжке, распрямился, приземлившись, вернее, приледнившись, а шагнуть не смог, страшная боль, пронзившая левую ступню, припечатала меня ко льду. Обратный путь я совершил вместе с тушей моржа — мокрой, холодной, окровавленной. Нас поднимали краном в грузовой сетке из тонких проволочных тросов. На четырех концах — кольца, которые накидываются на гак, прикрепленный к шкентелю крана; они стягивают сетку, получается большая авоська. На дне ее — лючина, доска с люка, дабы при стяжке не придавило друг к другу подымаемых — моржа и меня. На палубе я был подхвачен матросами и, подпрыгивая на одной ноге, заковылял с их помощью в лазарет.
«Таким манером, — пишет мне Сан Саныч, — ты можешь считать, что сорок лет назад установил мировой рекорд прыжка без парашюта за 83 градусом северной широты…»
Судового врача Т., красивого грузина, будто сошедшего с иллюстраций к «Витязю в тигровой шкуре», в лазарете не оказалось. До прыжка на лед я видел его на спардеке, он бегал с «ФЭДом», фотографировал, а сейчас, наверно, проявлял пленку — любимейшие занятия, ради которых он, похоже, и отправился в рейс. Когда фельдшер Митя своими мягкими многоопытными пальцами осторожно снял ботинок с моей ноги, оголил ее, явился и Т. Глянул на опухшую, посиневшую ступню, прикоснулся к лодыжке и сказал: «Сильный ушиб… Компрессик! Три дня постельного режима». Митя, отступивший в сторонку, я, приметил, недовольно мотнул головой, но возразить начальству не осмелился. Начальство было прислано на ледокол почему-то из Института мозга, где Т. состоял старшим научным сотрудником. Может, наверху, в человечьей башке, он что-то и петрил, ну а все остальное в теле, «низы», как называют моряки нижние палубы, было для него, по-моему, темным лесом, гораздо темнее и непонятней, чем для того же Мити-фельдшера… Я пролежал назначенный срок, опухоль спала, как бы подтверждая диагноз. Меня спустили с койки. Ходить было больно, но Т. сказал: «Разойдешься… Массажик, втирания… До свадьбы заживет!» Так и прохромал я весь рейс и продолжал хромать, вернувшись из плавания. Кто-то из друзей посоветовал обратиться в Институт травматологии на Петроградской стороне, неподалеку, кстати, От Института мозга, куда возвратился со своими фотографическими трофеями доктор Т. В детстве мама возила меня на Петроградскую к известному профессору-хирургу Вредэну показывать выпирающие косточки на моих коленках… Я знал, что Вредэна уже нет и заменяет его новое светило в хирургии профессор Рубинштейн. Попасть к нему трудно, запись чуть не за полгода, но мне устроили протекцию. И вот я в клинике, дождался вызова, вхожу в кабинет и вижу за столом репортера Р. в белом халате. Я подумал, что он собирает тут материал и, как обычно в лечебных заведениях, ему выдали на время халат.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: