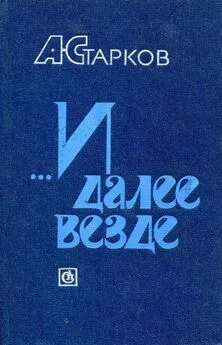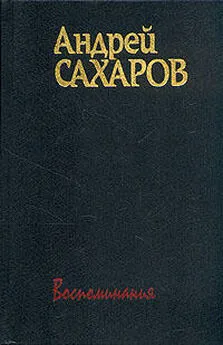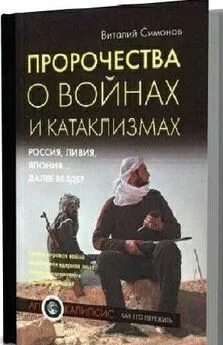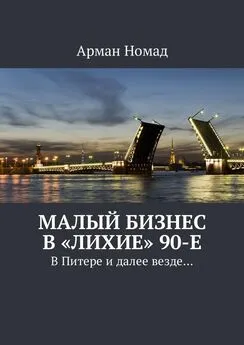Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мое появление в этом доме совпало, видно, уже с периодом массового отступничества от принципов, заложенных в его «фундамент». Пока я поднимался по узенькой лестнице, изо всех распахнутых дверей (по первоначальному статусу дома-коммуны, они не должны были закрываться — у них даже замков не было, — и это еще соблюдалось; позже их стали закрывать, о чем нам известно из стихотворения «Мой дом»: «…вот мой адрес — может пригодится? — Троицкая семь, квартира тридцать. Постучать. Не действует звонок»), изо всех раскрытых настежь дверей доносилось шипение примусов, — был предобеденный час, — и хозяйку квартиры на пятом этаже я застал как раз возле примуса, стоявшего на подоконнике. Она была в переднике, с поварешкой в руке. Помещение, где я очутился, нельзя было назвать ни жилой комнатой, ни кухней, ни передней, оно было всем, вместе, сложным гибридом. В его состав входили еще и рабочий кабинет с письменным столом, и детская спаленка, и… нет, этого, кажется, вовсе не было, как уж тут обходились, куда бегали, не знаю…
Прежде мы с Ольгой Берггольц не встречались, я принадлежал к следующему поколению деткоров, в редакцию она уже при мне не приходила, на литературных вечерах, которые я часто посещал, тоже не доводилось видеться. Вторжение незнакомого человека в квартиру без предварительного телефонного звонка и даже без предупредительного стука в раскрытую дверь несколько смутило, естественно, хозяйку. «Несколько» можно и убрать, как не точно передающее ее состояние. Она с нескрываемым недоумением — все еще мягко сказано — воззрилась на пришельца и даже невольно приподняла над головой поварешку, словно готовясь к обороне, вернее, «к нападению в пределах вынужденной самозащиты», по юридической формуле. Передо мной стояла молодая, совсем молоденькая, я бы сказал — юная женщина, если применимо такое сочетание, с мальчишеским зачесом светлых, в рыжинку, волос. И вообще в ней где-то притаился задорный и задиристый мальчишка, который по мере разговора все чаще высовывался и даже выскакивал из своего тайника наружу. Она была голубоглаза, с курносинкой, неожиданно завершающей абсолютно прямую, античную конструкцию носа, что, нарушая правильность черт и в ущерб, возможно, красоте, придавало лицу какую-то особую привлекательность.
Такой запомнилась она мне, таким ее тогдашний облик вошел в мою память.
А вот сам разговор, слова, которые произносились и, наверно, были слышны на третьем этаже у Чумандрина, из памяти выпали. Я мог бы их сейчас запросто воссоздать, их легко придумать, поскольку характер разговора абсолютно ясен: я назвался, объяснил, зачем пришел, и она согласилась выполнить мою просьбу, просьбу редакции. Но выдумывать слова, фразы не хочу, да в этом и нет необходимости. Существует документальное свидетельство этой встречи: напечатанное в юбилейном номере приветствие Ольги Берггольц, «организованное» мной. И это не просто, знаете, традиционное поздравление, какими набита праздничная газета, а… Впрочем, судите сами:
«Перед Первым мая в 1925 году я пришла в «Ленинские искры». Я принесла туда стихотворение. Оно называлось «Красное знамя». И начиналось так:
Чье созданье это знамя?
Кто соткал его, когда?
Чьими мощными руками
Создан алый стяг труда?
Это знамя днем и ночью
До сегодняшнего дня
Ткал великий ткач рабочий,
Мысли гордые храня.
Стихотворение приняли и попросили меня написать о том, как в нашей школе готовятся к первомайскому празднику. Тогда во всех школах в первый раз делали красные гвозди́ки, чтобы Первого мая продавать их на улицах в пользу беспризорных ребят. Я написала, как в нашей 117-й школе за Невской заставой делают гвоздики, готовят спектакль и учат песню «Мы — красная кавалерия». Эта песня тогда только появилась в школах.
Заметку и стихотворение напечатали. С тех пор я часто стала бывать в редакции «Ленинских искр». Она помещалась в самом большом доме на Невском, в начале проспекта. Почти что под крышей.
Мне очень нравилось в редакции, я сидела там всегда долго, смотрела, как приходит детвора, как правят заметки, как делают газету. Я решила, что сама буду обязательно работать в газете.
В «Ленинских искрах» я получила первые навыки газетной и литературной работы. Печаталась я в этой газете долго, даже когда училась в университете. Самая первая моя книжка «Как Веня поссорился с баранами» также была издана «Ленинскими искрами».
Поздравляю родные «Искорки» с юбилеем».
И опять же не помню, написала она это сразу при мне, возле примуса, или прислала по почте, или сама принесла в редакцию. Ближе к истине, сдается, третье — пришла, когда меня не было. А что уж точно помню, так это подпись под статьей: «Деткор Оля Берггольц», так было в рукописи. Но наш не по возрасту осторожный, не склонный к шуткам ответственный секретарь «деткора» убрал, «Олю» заменил на «Ольгу» и поставил заголовок «От деткора к писателю». В материал было заверстано довольно крупное овальное фото автора. Ретушь прибавила возрасту и напрочь упрятала задиристого мальчишку. Снимок анфас, курносинка исчезла, голубизну глаз тоже, само собой, не передало клише, глядят они на мир задумчиво, даже с некоторой тревогой. Это, несмотря на плохую типографскую печать и печать времени, пожелтевшее фото сохранилось.
Вторая встреча с Ольгой Берггольц — через много лет, где-то в шестидесятых годах, точнее сказать не могу. Время летит на космических скоростях — это факт твердо установленный — и не только для стариков, как прежде считалось, бежит оно так. Молодые нынче тоже жалуются на быстротечность времени. В этом своем движении оно, проносясь, сдвигает и перемешивает события в нашей памяти. То, что с ней происходит, можно назвать аберрацией внутреннего зрения: далекое видится близким, близкое далеким.
Встреча — неожиданная, мимолетная по своей краткости, но не летящая мимо души и сердца… У меня было дело в «Литературной газете». Я стоял внизу, в вестибюле, дожидаясь возвращения секунду назад ускользнувшего от меня лифта; на второй кабине висела табличка: «На ремонте». С улицы вошла пожилая женщина в вязаной накидке и остановилась чуть поодаль, тоже поджидая лифт. Я тотчас узнал ее, хотя и не видел все эти годы, узнал, скорее всего, по фотографиям в сборниках стихов, на суперобложке «Дневных звезд» — одной из самых близких мне по духовному строю книг. Но думаю, что узнал бы и без этих снимков. Есть лица, которые, несмотря на всю тяжесть отпечатков, положенных на них временем, несмотря на глубокие складки усталости возле рта и ставшие печальными глаза, не меняются в какой-то главной своей сути. В чем эта суть, трудно бывает определить, у каждого она своя. И если сохранилась, вы по ней узнаёте человека даже при самых резких физических изменениях его наружности, его лица.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: