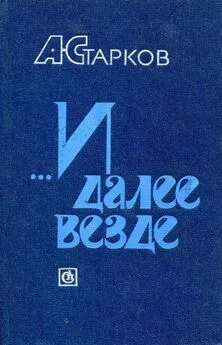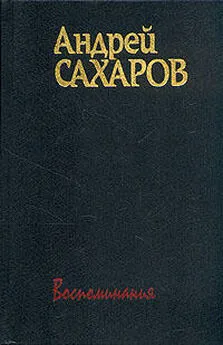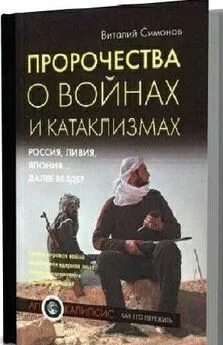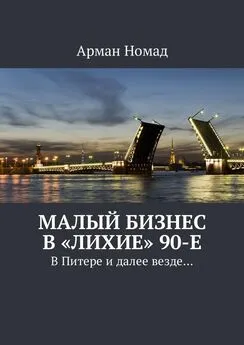Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Любопытно.
— «Дом призрения имеет целью доставить приют неимущим средств к существованию престарелым и увечным обоего пола, принадлежащим к петербургскому купеческому и мещанскому обществу. Состоящая при Доме школа предназначается для обучения и воспитания сирот и детей неимущих членов того же общества». И далее: «С десятилетнего возраста мальчики и девочки учатся раздельно. Во втором классе преподаются священная история, толкование заповедей и объяснение молитв господних, а также арифметика. В третьем классе на женской половине проходятся объяснение святых таинств и литургии, толкование и изучение предпричастных молитв, краткая география России, исчисление на счетах, понятия о ведении счетных книг. На мужской половине — те же предметы, но подробно и с присоединением бухгалтерии и товароведения». И еще я выписал: «Окончившие курс воспитанники на шестнадцатилетнем возрасте выпускаются из заведения, но могут быть выпущены ранее, смотря по способностям и успехам или по случаю спроса благонадежных купцов для приучения их к торговым делам».
— Хотя и разные этот приют и английский колледж, но что-то близкое по духу почудилось мне в них.
— В «советской единой трудовой», как тогда официально назывались школы, принятой Иваном Федоровичем, в ее длинных мрачноватых коридорах, дух, о котором вы говорите, полностью еще не испарился. Те, кто вел божьи науки, понятно, исчезли, а остальные-то учителя в подавляющем большинстве оставались прежние, приютские, с определенным настроем, с укоренившимися нравами. И, казалось бы, «красному директору», партийцу с 1920 года, начинать следовало с обновления педагогического состава, с чистки, с чего обычно и начинали такие, как он, директора-выдвиженцы. А Генрихов никого из «стариков» не тронул. Более того, на свободные вакансии, которые появлялись, поскольку школа расширялась, брал не одних молоденьких выпускников из Герценовского, но, и даже порой охотнее, пожилых учителей со стороны, как раз и уволенных из других школ ретивыми директорами по мотивам «обновления кадров».
— Не Людмилу ли Александровну Денисову имеете в виду?
— Помните ее?
— Учительница литературы и русского языка. Единственная кроме директора, кого принимал наш не управляемый для прочих англо-американский спецкласс. Педагоги шли к нам на урок как на заклание, как на казнь. Класс был на особом положении: иностранцы… И мы, маленькие наглецы, почувствовав эту свою особость, исключительность, всячески ее эксплуатировали. Один Алланчик Мортон чего стоил! Он мог в разгар урока учинить чехарду, прыгая, как обезьяна, через головы сидящих за партами, а однажды совершил такой прыжок над головой учителя географии, решившегося вызвать его к карте. В ошеломлении старик впал в длительную немоту, а мы гоготали… Только, говорю, при директоре и литераторше класс стихал. Ну, в Иване Федоровиче признавали все-таки власть, авторитет, и что-то в Людмиле Александровне подействовало на нас усмиряюще с первого же ее появления на пороге, еще до того даже, как она заговорила. Вошла, села за стол, обвела всех взглядом, обыкновенным, спокойным, в котором не было вроде ничего гипнотического, а никого почему-то не потянуло к обычным для нас выдрючиваниям, к обструкции, никому не захотелось хихикать, задавать глупые вопросы. На ее уроках мы работали. Серьезно, со старанием. И самым смиренным, самым работящим изо всех был Аллан. Ни по каким предметам он принципиально не держал тетрадей, презирал их, лишь по русскому языку завел.
— Я знал Людмилу Александровну задолго до того, как начал ходить корреспондентом к вам, в Седьмую. Мы были соседями с семьей Денисовых по дому на Моховой улице. Мама приятельствовала с Людмилой Александровной и первой узнала о случившейся с ней беде: потерявшая мужа-офицера в мировую войну, с двумя детьми на руках, она была уволена как чуждый элемент из школы, в которой преподавала с гимназических времен. Директор, уволивший Денисову, продолжал мстительно преследовать ее, названивая директорам школ, куда она пыталась устроиться, предупреждая, чтобы не брали «эту контру». Позвонил и Генрихову. Иван Федорович, выслушав всю его злобную аргументацию, тут же зачислил Людмилу Александровну в штат, о чем мама тоже первой узнала от нее и радостно сообщила нам дома. И мы знали, что есть такой добрый человек на свете по фамилии Генрихов.
— Он вел школу десять лет.
— Вспоминая Ивана Федоровича, понимаешь, что он являл собою несомненный педагогический феномен. Он ведь к своим трем церковноприходским классам не добавил, по-моему, официального образования.
— Нет, закончил заочно комвуз.
— А что комвуз? Ведь директор школы-десятилетки должен был бывать на уроках физики, математики, химии, обществоведения, литературы, географии, после чего делиться с учителем впечатлениями, делать ему замечания и не дилетантски, а на уровне знаний этого учителя, если не выше, тут одной интуицией не возьмешь. Он должен вести заседания педсовета, а перед ним были специалисты, от коих не отделаешься общими фразами, скольжением по поверхности проблемы, по ее, что ли, облицовке, без глубинного проникновения в суть дела. Он должен был беседовать с родителями об их детях с пониманием психологии и родителей и детей… Быть, словом, директором, способным за три-четыре года вывести школу в образцовую, какой она была объявлена приказом по Наркомпросу, подписанным Бубновым.
— У него, у Ивана Федоровича, были друзья-помощники, восполнявшие то, чего ему самому не хватало. Такие, как друживший с ним и за пределами школы физик Николай Федорович Платонов, про которого в стенной газете, перефразируя Ломоносова, написали, что «может собственных Платоновых российская земля рождать». Та же ваша соседка Людмила Александровна; она создала методкабинет по литературе, ставший местом паломничества для учителей со всего города, да и из других городов приезжали. Или ее воспитанница Зинаида Александровна Рябчик…
— С Зинаидой Александровной я виделся вчера. Вспоминала, как всей школой — и учителя и ученики — переживали, когда в верхах сочли, что Генрихов уже «не соответствует современным требованиям», и он был переведен во Дворец пионеров заведовать фильмотекой, даже ходоков посылали в Смольный, целую делегацию, просить, чтобы оставили его директором. Говорила, что на ее памяти сменилось много директоров, все, по документам, образованней Ивана Федоровича, а самобытней, талантливей не было.
— Грех за ним водился…
— Знаю, и не поймите, что хочу оправдать его напоминанием о горе, которое носил в душе Иван Федорович…
— Вы про Галочку, про дочку?.. После восьмого класса меня перевели из англо-американского в обыкновенный, и я учился вместе с Галей Генриховой. Она носила постоянно повязку на горле, голос хрипловатый. Малышкой, лет трех, глотнула какой-то кислоты или щелочи из склянки, оставленной в кухонном шкафу матерью-медсестрой. Сожгло пищевод, повредило голосовые связки. Более точно, детальнее передать, какой характер носила травма, не берусь. Не медик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: