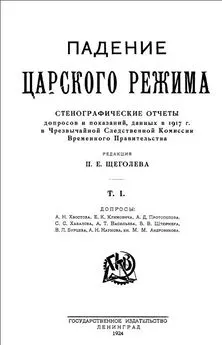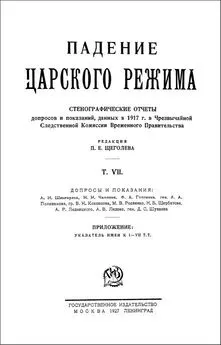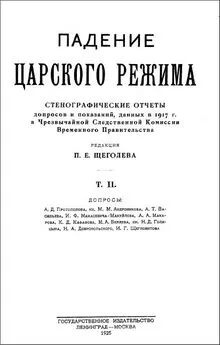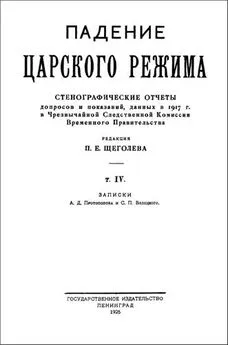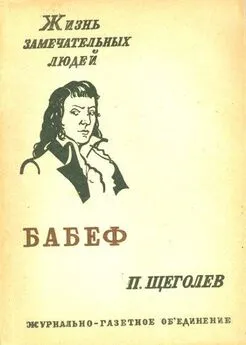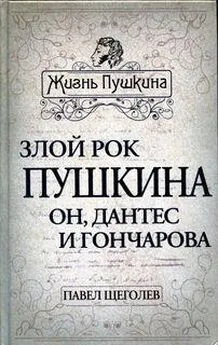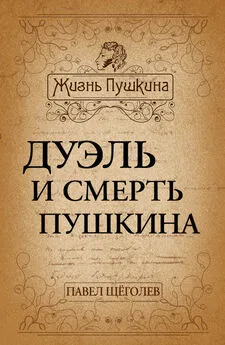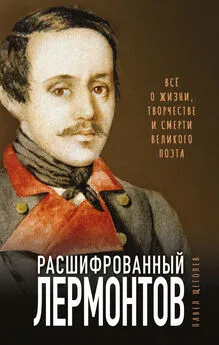Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Название:Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] краткое содержание
Вступительная статья и примечания Янины Леоновны Левкович.
Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
79
О том же пишет в дневнике Д. Ф. Фикельмон: «Одна из сестёр госпожи Пушкиной, к несчастию, влюбилась в него <���Дантеса>, и, быть может, увлечённая своей любовью, забывая о всём том, что могло из-за этого произойти для её сестры, эта молодая особа учащала возможности встреч с Дантесом» (Запись 29 января 1837 т. — П. в восп. 1974. Т. 2. С. 142). Александр Карамзин считает, что она была не только «посредницей», но и возлюбленной Дантеса (см. его письмо Андрею Карамзину на с. 471 наст. изд. [См. выше {77} ]). Называя Е. Гончарову «возлюбленной» Дантеса, Ал. Карамзин, очевидно, пытается объяснить самому себе причину женитьбы Дантеса. В трусость его он, по-видимому, не может поверить.
80
Кроме указанных Щёголевым Вяземского, Виельгорского, Васильчиковой и Хитрово, аналогичные письма получили Карамзины и К. О. Россет (см.: Смирнов Н. М. Из памятных записок // П. в восп. 1974. Т. 2 С. 239). А. Ахматова впервые обратила внимание на то, что дипломы были посланы только друзьям Пушкина и объясняет это так: «Очевидно, голландский посланник, желая разлучить Дантеса с Натальей Николаевной, был уверен, что le mari d’une jalousie révoltante (возмутительно ревнивый муж — так называет Пушкина Дантес в своём письме к Геккерну от 20 января 1836 г. См. наст. изд., с. 467 {70} ), получив такое письмо, немедленно увезёт жену из Петербурга, пошлёт к матери в деревню (как в 1834 г.) — куда угодно и всё мирно кончится. Оттого-то все дипломы были посланы друзьям Пушкина, а не врагам, которые, естественно, не могли увещевать поэта» ( Ахматова. С. 127). С. Л. Абрамович уточнила наблюдение Ахматовой — приведя свидетельство В. Соллогуба, отметившего, что «…письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка» ( П. в восп. 1974. Т. 2 С. 300). И действительно, П. А. Вяземский — брат Е. А. Карамзиной по отцу, «дядюшка» её детей, В. Соллогуб, — соученик братьев Карамзиных по Дерптскому университету, Аркадий Россет — близкий друг Александра и Андрея Карамзиных, М. И. Виельгорский — связан с домом Карамзиных (как и Пушкина) многолетними дружескими отношениями. Из посторонних карамзинскому кружку лиц письмо получила только Е. М Хитрово, но она преданно любила Пушкина, и можно было быть уверенным, что если она и будет действовать, то только как друг поэта, т. е. не допустит скандала. «Всё это, — пишет С. Л. Абрамович, — говорит о том, что организатор интриги с анонимными письмами был как-то связан с карамзинским салоном. Пушкин, по-видимому, уверился в этом, когда убедился, что все экземпляры пасквиля получили распространение только в карамзинском кружке. <...> И, конечно, не случайно Пушкин в ноябре избрал своими секундантами В. Соллогуба и К. Россета: дело должно было завершиться в присутствии свидетелей из числа завсегдатаев карамзинского дома» ( Абрамович. С. 71). С карамзинским салоном был тесно связан и Дантес (см. выше, с. 471 наст. изд. {77} ).
В настоящее время известны два экземпляра «диплома» (см.: Данилов В. В., Султан-Шах М. П. Документальные материалы об А. С. Пушкине: Крат. описание // Бюл. рукоп. отд. Пушкинского дома. 1959. Вып. 8. № 1). Оба сохранились в архиве III отделения. Один из них был отправлен в конверте на имя М. Ю. Виельгорского. Впервые текст пасквиля был напечатан в журнале Герцена и Огарёва «Полярная звезда» (Лондон. 1861. Кн. 6), но ещё до этого широко распространялся в рукописных сборниках документов, относящихся к гибели Пушкина. Н. Я. Эйдельману удалось найти 30 таких рукописных сборников (см.: Эйдельман Н. Я. О гибели Пушкина: По новым материалам // Новый мир. 1972. № 2 С. 202). Сборник составляли следующие документы (приводим их в той последовательности, как они расположены в сборниках и с теми же названиями): «1. Два анонимных письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы. 2. Письмо Пушкина, адресованное, кажется, на имя графа Бенкендорфа 21 ноября 1836 года. 3. От Пушкина к Геккерну-отцу. 4. Ответ Геккерна. 5. Записка от Аршиака 26 января 1837 года 6. Записка от Аршиака 27 января 1837 года 8. Визитная карточка Аршиака. 9. Письмо Пушкина к Аршиаку 27 января между 9 1/ 2и 10 часами утра. 10. От Аршиака Вяземскому. 11. Князю Вяземскому от Данзаса 12. От графа Бенкендорфа к графу Строганову». В ряде списков вслед за этими идёт ещё тринадцатый документ — письмо Вяземского московскому почт-директору А. Я. Булгакову от 15 февраля 1837 г. Те же самые документы, кроме анонимного пасквиля, который не был пропущен цензурой, были напечатаны в приложении к воспоминаниям К. К. Данзаса (см.: Аммосов. С. 43—70). Подробно об этих сборниках см. названную статью Н. Я. Эйдельмана. [Возврат к комментарию {107} ]
81
Надпись на конверте выглядела так: «Александру Сергеичу Пушкину» (курсив мой. — Я. Л .).
82
О душевном состоянии Пушкина свидетельствует эпизод во время празднования лицейской годовщины 19 октября 1836 г. П. В. Анненков, со слов «одного из лицейских товарищей Пушкина», приводит «трогательный анекдот» о чтении Пушкиным своего стихотворения. Поэт «извинился перед товарищами, что прочтёт им пьесу не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу: „Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался“, как слёзы покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошёл в угол комнаты, на диван… Другой товарищ уже прочёл за него последнюю лицейскую годовщину» (Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Спб., 1855. С 425; ср. то же: М., 1984. С. 378). Эпизод со слезами повторяет и В. П. Гаевский, ссылаясь на Яковлева: «По свидетельству Яковлева, поэт только что начал читать первую строфу, как слёзы полились из его глаз и он не мог продолжать чтение» (Гаевский В. П. Празднование лицейских годовщин в пушкинское время//Отеч. зап. 1861. № 11. С. 38). Детали этого эпизода в статье Гаевского приведены со ссылкой на «Материалы» Анненкова с примечанием: «Заметим, что Пушкин читал наизусть и, следовательно, никто не мог дочитать его стихов». О чтении стихов наизусть записал тот же Яковлев в протоколе годовщины (см.: Грот К. Я. Празднование лицейских годовщин при Пушкине и после него//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 61). По-видимому, Анненков пользовался информацией не Яковлева, а кого-то другого из товарищей поэта. Несоответствие показаний («всех стихов не припомнил») и неизвестного «лицейского товарища» дало основание Гастфрейнду усомниться в подлинности рассказа о слезах поэта (см.: Гастфрейнд Н. А. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею: Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811—1817 гг. Спб., 1912. Т. 2. С. 250). Это же мнение высказал и A. Л. Осповат в комментариях к фототипическому изданию «Материалов для биографии Пушкина» П. В. Анненкова (М., 1985. С. 160—161). Между тем ссылка Гаевского на Яковлева и всё, что мы знаем о состоянии Пушкина осенью 1836 года, подтверждают этот эпизод. Умолчание о слезах поэта в протоколе годовщины может объясняться деликатностью Яковлева. И всё же «состояние» Пушкина осенью 1836 г. нельзя назвать «оцепенением» — он активно занимался делами «Современника». Даже в самое трудное для него время, за несколько часов до дуэли, он написал деловое письмо к детской писательнице А. О. Ишимовой (см. выше, с. 128—129 наст. изд. [См. 1-ую часть книги, 17 (2-я половина). — Прим. lenok555 ]).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)