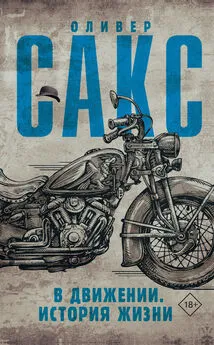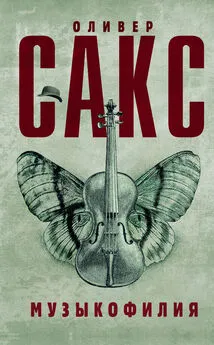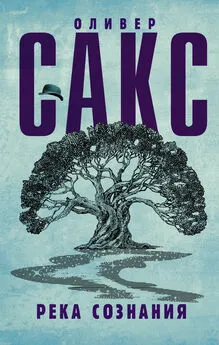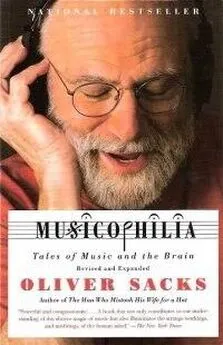Оливер Сакс - В движении. История жизни
- Название:В движении. История жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-091337-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливер Сакс - В движении. История жизни краткое содержание
Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу.
История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века.
История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука».
История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты.
История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.
В движении. История жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Какое чувство свободы! Книга «клинических случаев» была завершена, я был свободен и мог позволить себе настоящий отпуск, чего у меня не было, как я полагал, более десяти лет. Повинуясь внезапному импульсу, я решил съездить в Австралию. Я там никогда не был, а в Сиднее жил мой брат Марк с женой и детьми. Последний раз я видел брата, когда он с семьей приезжал на золотую свадьбу родителей в 1972 году. Я дошел до Юнион-сквер, где находился офис компании «Квантас» в Сан-Франциско, и, предъявив паспорт, попросил билет на ближайший рейс в Сидней. Никаких проблем, сказали мне, мест сколько угодно, и мне осталось только заскочить в гостиницу, забрать вещи и ехать в аэропорт.
Это был самый долгий в моей жизни полет, но мною владело состояние приподнятости, и я, не отрываясь, писал в журнале, а потому время пролетело незаметно, и через четырнадцать часов я уже был в Сиднее. Когда мы кружили над городом, я узнал знаменитый мост и здание Оперного театра. У стойки паспортного контроля я протянул офицеру паспорт и был уже готов идти дальше, как вдруг тот меня спросил:
– А где виза?
– Виза? – переспросил я. – Какая виза? Никто мне о визе ничего не говорил.
Радушие на лице офицера сменилось выражением суровой серьезности. Он принялся расспрашивать меня. Почему я приехал в Австралию? Есть ли здесь кто-нибудь, кто мог бы поручиться за меня? Я сказал, что в аэропорту меня встречает брат и его семья. Мне велели сесть и ждать, пока брата не найдут и не установят его личность. Власти дали мне временную визу на десять дней, но предупредили:
– Никогда так больше не делайте, или мы отправим вас назад в Штаты.
Десять дней, проведенных в Австралии, были полны для меня радостью открытий – я заново познакомился со своим братом Марком (тот был на десять лет старше меня и уехал в Австралию еще в 1950 году), с его женой Гей, в присутствии которой я сразу почувствовал себя как дома (она разделяла мою любовь к минералам и растениям, а также плаванию и нырянию), со своими юными племянником и племянницей – они были страшно рады тому, что у них появился новый (и весьма экзотического характера, как они полагали) дядюшка.
С Марком у меня сложились отношения, которых не было ни с одним из братьев, оставшихся в Англии. Такого рода взаимоотношения были невозможны с Дэвидом – очаровательным светским щеголем, или Майклом, блуждающим в глубинах шизофрении. Именно с Марком, спокойным, начитанным, вдумчивым и по-братски радушным, я мог установить более глубокую связь.
Я также влюбился в Сидней, а потом – в тропический лес Дейнтри и Большой Барьерный риф у Квинсленда, потрясающе красивый и странный. Наблюдая уникальную флору и фауну Австралии, я вспомнил Дарвина, который был так поражен растениями и животными Австралии, что записал в своем журнале: «На Земле, очевидно, работал не один, а два Создателя».
После взлетов и падений, которыми сопровождалась для нас с Колином работа над «Пробуждениями» и «Ногой», наши отношения стали более простыми и легкими. Если тот год, который мы отдали редактированию «Ноги», нас обоих почти убил, то, работая над «Шляпой» (так мы, не сговариваясь, назвали очередную книгу), мы без труда обходили те подводные камни, на которые натыкались раньше. Многие фрагменты «Шляпы» были уже опубликованы, и Колин, редактируя остальное, одновременно предложил разбить все истории на четыре группы, каждый раздел предварив отдельным предисловием.
Колин выпустил книгу в свет в ноябре 1985 года, ровно через шесть месяцев после того, как я закончил рукопись; американское издание вышло в январе 1986 года, достаточно скромным начальным тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров.
«Нога» продавалась не очень хорошо, и никто не ожидал, что собрание историй о неврологических больных сможет стать коммерчески успешным. Но через несколько недель издательство «Саммит» вынуждено было выпустить еще один тираж, а потом еще. О книге говорили, популярность ее росла, и в апреле, совершенно неожиданно, она оказалась в списке бестселлеров журнала «Нью-Йорк таймс». Я решил, что это либо ошибка, либо временный взлет, за которым последует падение продаж, но в этом списке книга держалась двадцать шесть недель.
Что поразило и тронуло меня – даже в большей степени, чем объем продаж, – так это поток писем, которые шли, в том числе и от людей, которые испытывали те же проблемы, что были описаны мной в «Шляпе», – кто-то потерял способность узнавать людей, кого-то мучили музыкальные галлюцинации и так далее. Некоторые читатели жаловались, что не решаются признаться в этом ни окружающим, ни порой даже самим себе.
Другие читатели интересовались героями моей книги. «Как там Джимми, заблудившийся мореход? Передайте ему привет и наилучшие пожелания», – писали они. Джимми был для них совершенно реальной фигурой, как и многие другие персонажи книги; именно реальность ситуации, реальность борьбы, которую мои герои вели с недугом, трогала и сердца, и умы читателей. Они могли запросто представить себя в положении, в котором оказался Джимми. С «Пробуждениями» дело обстояло совсем не так: там я писал о трагических обстоятельствах столь экстремальных, что вообразить их себе неспособна была даже самая добрая душа, наделенная самым сильным воображением.
Парочка рецензентов сочла, что я специализируюсь на изображении «странного» или «экзотического», но я представлял себе дело совершенно иным образом. Я думал о своих историях как о показательных и типичных (мне очень нравился постулат Витгенштейна, что книга должна состоять из примеров), и я надеялся, что, изобразив случаи особенно тяжкие, не только покажу, что значит страдать от неврологического заболевания, но и открою принципиальные, а может быть, и неожиданные аспекты работы человеческого мозга.
Хотя Джонатан Миллер и сказал мне после того, как «Пробуждения» вышли в свет, что я стал знаменитым, это было не совсем так. Книга получила литературную премию и была хорошо принята публикой, но в США ее почти не заметили (была опубликована только одна рецензия в «Ньюсуик», написанная Питером Прескоттом). Внезапная популярность «Шляпы» сделала меня по-настоящему публичной фигурой, хотелось мне этого или нет.
Конечно, сразу проявились преимущества моего нового положения. Неожиданным образом я вошел в контакт с огромным количеством людей. Обладая способностью помочь, я также был способен и принести вред. Я больше не мог писать анонимно. Когда я сочинял «Мигрень», «Пробуждения» и «Ногу», я и не думал о читающей публике. Теперь у меня появилось некое обостренное ощущение собственной самости.
И до этого время от времени я произносил публичные лекции, но после выхода «Шляпы» меня завалили приглашениями и всякого рода просьбами – выступить и рассказать о тех или иных вещах. Плохо это было или хорошо, но теперь я оказался в центре внимания, хотя по складу характера я скорее одиночка, а творить предпочитаю подальше от публики. Но с этих пор творческое одиночество стало для меня труднодостижимым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: