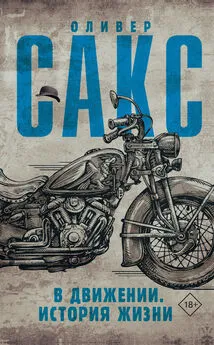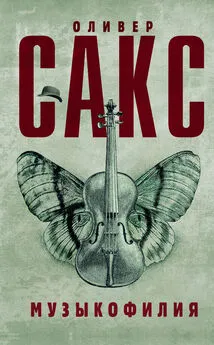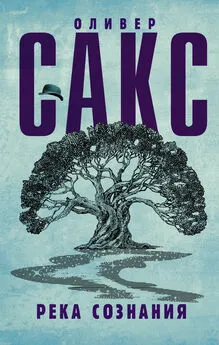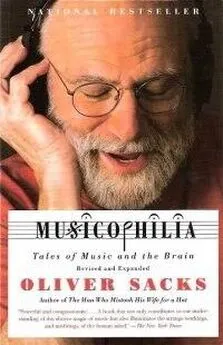Оливер Сакс - В движении. История жизни
- Название:В движении. История жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-091337-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливер Сакс - В движении. История жизни краткое содержание
Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу.
История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века.
История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука».
История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты.
История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.
В движении. История жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эдельман полагал, что базовым элементом отбора и изменения является не индивидуальный нейрон, а группы нейронов в количестве от пятидесяти до тысячи взаимосвязанных единиц – почему он и назвал свою теорию так: «теория отбора нейронных групп». Свою работу Эдельман считал завершением того дела, которое начал Дарвин; он дополнил дарвиновскую картину естественного отбора, действующего на протяжении многих поколений, схемой естественного отбора на клеточном уровне – в рамках жизни индивидуальной особи.
Безусловно, у нас есть некая предрасположенность к разным вещам, предопределенная генетическим кодом; в противном случае ребенок ни к чему бы не стремился, ничего бы не требовал, а потому вряд ли был способен выжить. Этот базовый набор предрасположенностей (например, к еде, теплу, контакту с другими людьми) направляет первые движения и стремления человеческого существа.
Кроме того, различные сенсорные и моторные средства существуют на элементарном физиологическом уровне: это рефлексы (например, реакция на боль) или автоматические мозговые механизмы (те, например, что контролируют дыхание и вегетативные функции).
Но, как полагал Эдельман, почти все остальное не подвергается программированию и не встраивается в генетический код. Крошка черепаха, вылупившись из яйца, уже готова отправиться в путешествие. Иное дело человек: после рождения человеческий детеныш должен создать систему перцептуальной категоризации (и прочих форм категоризации) и научиться ею пользоваться, чтобы понять окружающий мир; он обязан сформировать свой собственный, индивидуальный мир и освоить его. И принципиальную роль здесь играют опыт и эксперимент, а потому в рамках нейронного дарвинизма отбор описывается исключительно в соотнесенности с категорией опыта.
Реальная функциональная «машинерия» мозга, по Эдельману, состоит из миллионов нейронных групп, организованных в более крупные образования, или «карты». Эти карты, постоянно общающиеся в рамках непрерывно изменяющихся, невообразимо сложных, но всегда полных смысла схем, могут изменять свою конфигурацию в течение минут или даже секунд. Все это напоминает то, что Ч. С. Шеррингтон, имея в виду мозг, весьма поэтично назвал «магическим ткацким станком», где «миллионы мерцающих челноков ткут полную смысла, но никогда не равную самой себе пульсирующую ткань; вечно изменяющаяся гармония структур и субструктур».
Создание карт, которые избирательно реагируют на определенные элементарные категории, например, на движение или цвет в визуально постигаемом мире, могут вызывать синхронизацию тысяч нейронных групп. Некоторые виды картирования происходят в обособленных, анатомически фиксированных частях коры головного мозга, как в случае с цветом: цветовые ощущения преимущественно конструируются в зоне, называемой зоной V4. Но большую часть коры отличает пластичность – это так называемая плюрипотентная «недвижимость», которая может исполнять (в известных пределах) любые необходимые функции: так, зоны мозга, отвечающие у слышащих людей за аудиовосприятие, могут быть перенаправлены на обслуживание визуальных функций у людей глухих; таким же образом «зрительный» сегмент коры может исполнять иные сенсорные задачи у слепорожденных.
Ральф Сигел, исследовавший нейронную активность обезьян, выполнявших определенную визуальную задачу, очень хорошо видел пропасть, разделяющую микрометоды исследования, при которых электроды вживлялись в отдельную нервную клетку и снимали показатели ее активности, и макрометоды (фМРТ, ПЭТ-сканирование и т. д.), которые показывали, как реагируют на стимул целые отделы головного мозга. Понимая необходимость использования промежуточной методики, Ральф первым предложил оригинальный «мезометод», который позволил ему в режиме реального времени наблюдать десятки или даже сотни нейронов, которые, взаимодействуя, синхронизировали свою деятельность. Одним из его открытий – неожиданных и даже поставивших его в тупик – был тот факт, что нейронные констелляции и карты могли изменяться в течение секунд, как только животное овладевало новым навыком или адаптировалось к различным поступающим стимулам. Все это в значительной степени соотносилось с теорией Эдельмана об отборе нейронных групп, и мы с Ральфом многие часы посвятили обсуждению возможных последствий его открытия. Обсуждали мы это и с Эдельманом, который, как и Крик, был восхищен работами Ральфа.
Там, где дело касается восприятия объектов, любил говорить Эдельман, мир не открывается нам с уже готовыми «этикетками», он «еще не разложен на конкретные объекты». Восприятие мы осуществляем на основе той категоризации, которую сами же и создаем. «Каждый акт восприятия – это акт творческого конструирования», – утверждал Эдельман. Существуя в мире, с помощью органов чувств мы отбираем образчики его фактуры и на их основе конструируем в нашем мозге различные карты. Затем, используя приобретаемый опыт, мы избирательно усиливаем и уточняем эти карты, соотносящиеся с определенными успешными актами восприятия – успешными в том смысле, что они показывают свою максимальную полезность и надежность в конструировании «реальности».
Здесь Эдельман говорит о дальнейшей интегративной деятельности, свойственной более сложным нейронным системам; эту деятельность он именует «циркуляционной сигнальной активностью». С его точки зрения, восприятие стула, например, зависит поначалу от синхронизации активированных нейронных групп, которые формируют «карту», и дальнейшей синхронизации целого ряда рассредоточенных карт в зрительном отделе коры головного мозга, отвечающих за восприятие различных визуальных составляющих стула (размер, форма, цвет, наличие ножек, отношение к прочим видам предназначенной для сидения мебели – креслам, креслам-качалкам, детским стульчикам и т. д.). Совершая эти действия, мозг приходит к богатой и гибкой перцептивной модели «стулости», которая позволяет человеку мгновенно опознавать разнообразные конкретные стулья как стулья. Этот перцептивный генерализированный образ динамичен, а потому может постоянно совершенствоваться, и это совершенствование зависит от активного и постоянного соотнесения и гармонизации бесконечного множества деталей.
Подобная соотносимость и синхронизация нейронной активности в подчас отдаленных друг от друга областях мозга возможна благодаря наличию эффективной многосторонней связи между «картами» мозга, обеспечиваемой миллионами нервных волокон. Прикосновение к стулу как стимул может активировать один набор карт, лицезрение стула – другой.
Циркуляционная сигнальная активность имеет место в пространстве, объединяющем эти наборы карт, и является частью процесса восприятия стула.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: