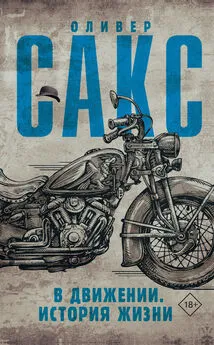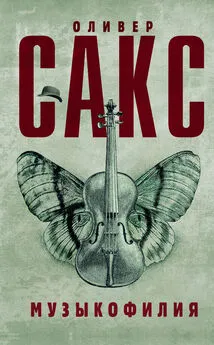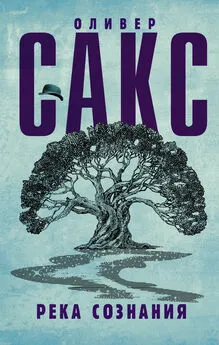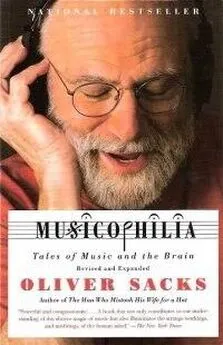Оливер Сакс - В движении. История жизни
- Название:В движении. История жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-091337-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливер Сакс - В движении. История жизни краткое содержание
Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу.
История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века.
История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука».
История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты.
История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.
В движении. История жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя в нейронауке в течение 1970–1980 годов был сделан значительный шаг вперед, в ней ощущался концептуальный кризис, некий методологический вакуум. Отсутствовала общая теория, которая позволила бы осмыслить огромное количество накопившихся данных, а также наблюдений, сделанных в рамках целой дюжины различных дисциплин – от неврологии до педологии, лингвистики и даже психоанализа.
В 1986 году в «Нью-Йоркском книжном обозрении» я прочитал замечательную статью Израиля Розенфилда, в которой тот обсуждал революционные работы и идеи Джералда М. Эдельмана. Демонстрируя чудеса храбрости, Эдельман писал: «Мы стоим у начала революции в нейронауке. К ее окончанию мы узнаем, как работает сознание, какие силы управляют нашей природой и как мы познаем мир».
Через несколько месяцев мы с Розенфилдом встретились с этим человеком в конференц-зале неподалеку от Университета Рокфеллера, где Эдельман руководил Неврологическим институтом.
Эдельман вошел, кратко поздоровался, а затем без остановки говорил минут двадцать-тридцать, характеризуя свои теории. Никто из нас не рискнул перебить его. Затем он быстро ушел, и, выглянув в окно, я увидел, как он, не глядя по сторонам, идет по Йорк-авеню. Я подумал: «Так ходят гении. Он одержим мономанией». Я чувствовал и благоговение, и зависть – как бы мне хотелось обладать такой мощной силой концентрации! Но потом я подумал, как непросто жить с таким умом: Эдельман не знал отпусков, спал крайне мало, и вся его жизнь была подчинена тирании мысли. Часто он звонил Розенфилду даже по ночам. Нет уж, лучше я буду оставаться собой, со своими более скромными дарованиями.
В 1987 году Эдельман опубликовал свою новаторскую книгу «Нейронный дарвинизм», первую в серии работ, посвященных обоснованию и разработке в высшей степени радикальной идеи, которую он назвал теорией отбора нейронных групп, или, чтобы лишний раз напомнить источник своей методологии, нейронным дарвинизмом. Я буквально продирался сквозь эту книгу, временами находя написанное непроницаемым для читателя, частично в силу новизны самих идей, частично из-за высокой степени абстракции мысли автора и отсутствия конкретных примеров. Свою книгу «Происхождение видов» Дарвин назвал «одним длинным аргументом», но он поддержал этот аргумент огромным количеством примеров естественного (и искусственного) отбора и своим писательским талантом. «Нейронный дарвинизм», напротив, представлял собой один чистый аргумент – единое интенсивное интеллектуальное усилие от начала до конца. Я был не единственным, кто испытал трудности с чтением «Нейронного дарвинизма»: плотность, смелость и оригинальность работы Эдельмана, которой было тесно в рамках языка, ошеломляли.
Я дополнил свой экземпляр «Нейронного дарвинизма» примерами из клинической практики, пожалев, что Эдельман, который имел подготовку невролога и психиатра, сам этого не сделал.
В 1988 году я вновь встретился с Джерри, когда мы оба делали презентации во Флоренции на конференции, посвященной искусству памяти [86] Джерри одновременно смог и восхитить, и озадачить аудиторию, когда сказал: «Сознание – это не компьютер, а мир – не кусок пленки», а итальянские слушатели услышали «мир – не кусок пирога». Это привело к страстному обсуждению в кулуарах конференции, целью которого было выяснить, что американский профессор хотел сказать своим афоризмом. Английские слова tape «пленка» и cake «пирог» частично созвучны. – Примеч. пер.
.
После конференции мы вместе обедали. За обедом оказалось, что Эдельман сильно отличается от того сурового интеллектуала, который во время нашей первой встречи целое десятилетие интенсивных размышлений попытался спрессовать в несколько минут своего монолога; здесь он был более расслаблен, более терпелив к моей медлительности. И разговор шел без затруднений. Джерри интересовался моим опытом работы с пациентами, опытом, который мог иметь отношение к проблемам, над которыми он трудился; это были клинические случаи, иллюстрирующие его теории работы мозга и сознания. В Университете Рокфеллера он был далек от клинической практики, как и Крик в Институте Солка, и оба испытывали настоящий голод по данным, полученным от реальных пациентов.
На нашем столе лежала бумажная скатерть, и, когда ту или иную проблему понять было сложно, мы рисовали графики и диаграммы, добиваясь полной ясности. К моменту, когда мы закончили, я почувствовал, что начинаю понимать теорию отбора нейронных групп, по крайней мере частично. Эта теория осветила для меня огромное поле неврологических и психологических данных и оказалась совершенно внятной и проверяемой моделью восприятия, памяти и обучения. Она показала, как посредством селективных и взаимодействующих друг с другом механизмов мозга в человеческом существе формируется сознание, которое и делает его уникальной индивидуальностью.
Если Крик и его коллеги расшифровали генетический код (в самых общих чертах – набор инструкций, на основании которых строится тело), то Эдельман очень рано понял, что генетический код неспособен определять или контролировать судьбу каждой индивидуальной клетки, находящейся в теле, и что клеточное развитие, особенно в нервной системе, подвергается воздействию всякого рода непредвиденных обстоятельств: нервные клетки могут умереть, могут мигрировать (таких мигрантов Эдельман называл «цыганами»), могут непредсказуемым образом соединяться с другими клетками – так, что к моменту рождения нервные системы окажутся различными даже у полностью идентичных близнецов, которые будут абсолютно разными индивидуальностями, совершенно уникальным образом реагирующими на окружающий мир.
Дарвин, за век до Крика и Эдельмана изучавший морфологию усоногих раков, заметил, что две особи одного вида никогда не будут полностью идентичными; биологические популяции состоят не из подобных во всем организмов, а из различных, уникальных индивидуальностей. Естественный отбор может осуществляться только в такой популяции вариантов – сохраняя некоторые линии для последующих поколений, а иные обрекая на вымирание (Эдельману нравилось называть естественный отбор «огромной машиной смерти»). Почти с самого начала своей карьеры Эдельман понял, что процессы, подобные естественному отбору, многое определяют в жизни индивидуальных организмов, особенно высших животных: некоторые нейронные соединения, или констелляции, в нервной системе под воздействием жизненного опыта могут усиливаться, а некоторые – ослабевать и исчезать [87] Сначала Эдельман первым применил теорию отбора к иммунной системе (за эту работу он получил Нобелевскую премию), а впоследствии, в середине 1970-х годов, начал прилагать ее и к процессам, происходящим в нервной системе.
.
Интервал:
Закладка: