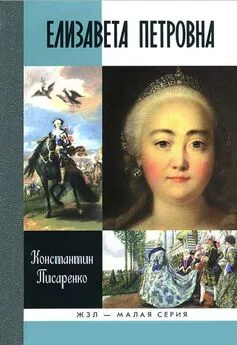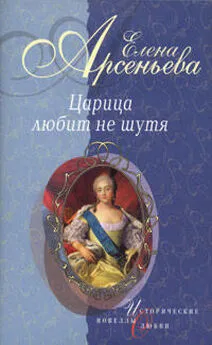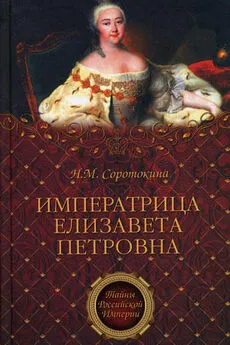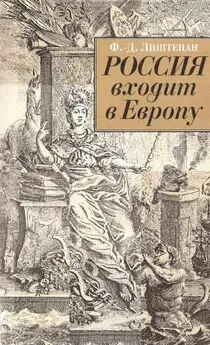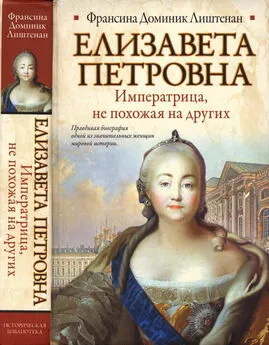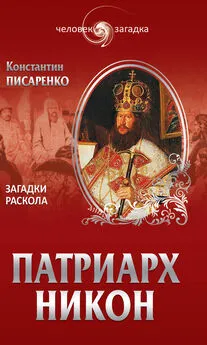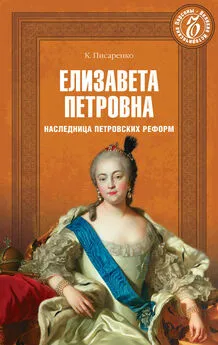Константин Писаренко - Елизавета Петровна
- Название:Елизавета Петровна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:М.:
- ISBN:978-5-235-03682-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Писаренко - Елизавета Петровна краткое содержание
Книга историка Константина Писаренко, кое в чем спорная, местами провокационная, поднимает много вопросов о царствовании и личной жизни дочери Петра Великого и дает на некоторые из них неожиданные ответы.
[Адаптировано для AlReader]
Елизавета Петровна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Увы, авторитет Ломоносова — единственного из членов Академической конференции (Ж. Н. Делиль с 1738 года ее заседания бойкотировал) примкнувшего к восстанию нижних чинов канцелярии, до сих пор мешает исторической науке взглянуть на эти события беспристрастно. Да, Шумахер был жестким, подчас несправедливо жестким администратором. Правда, без этой жесткости он вряд ли сумел бы уберечь детище Петра I от краха и развала. Мало того что академия финансировалась из бюджета на редкость скудно (около 25 тысяч рублей в год) и надлежало как-то изворачиваться, добывая дополнительные средства от спонсоров и книжной торговли, перекраивая в зависимости от приоритетности расходные статьи, так еще требовалось изо дня в день обуздывать амбициозность профессорского состава, поголовно состоявшего из иностранцев с высоким самомнением и связями при дворе, а потому заносчивого и конфликтного.
Иван Данилович умудрялся справляться с проблемами: и ученое высокомерие осаживал, и сводил концы с концами, оплачивая счета и погашая задолженности — естественно, при содействии секретарей, переводчиков, канцеляристов, копиистов и т. д. Не все могли выдержать напряженный ритм работы и непростой характер советника канцелярии. Вот часть сотрудников и взбунтовалась, объединившись со студентами, из-за повальной экономии жившими впроголодь, и избрала своим лидером Нартова, заведовавшего Инструментальной палатой Академии наук и неподотчетного Шумахеру. Увы, «мятежники» потерпели полное фиаско. Во-первых, они оказались в абсолютной изоляции: большинство сослуживцев во главе с секретарем Сергеем Волчковым и канцеляристом Василием Худяковым от них отмежевались, а члены Конференции, за одним исключением, либо осудили бунт, подобно Г. Ф. Миллеру, по приезде организовавшему сопротивление Нартову, либо промолчали, по примеру адъюнкта Г. Н. Теплова; наконец, многие из влиятельных персон, близких к академии (среди них, между прочим, значились лейб-медик А. Р. Санхес и В. Н. Татищев), открыто поддержали Шумахера. Во-вторых, подопечные петровского механика не сумели предъявить весомые доказательства «воровства» патрона, хотя судьи нисколько не препятствовали им. В итоге уже 28 декабря 1742 года комиссия отменила домашний арест Ивана Даниловича, а менее чем через год, 5 декабря 1743-го, его и вовсе реабилитировали и восстановили в должности {65} 65 См.: МИАН. Т. 5. С. 622; Миллер Г. Ф. История Сибири: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 74, 148, 149; Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX вв. М.; Л., 1940. С. 40–43; Татищев В. Н. Записки. Письма. 1717–1750 гг. М., 1990. С. 281, 290, 304; Писаренко К. А. Елизавета Петровна. С. 177, 179–189, 194.
.
Однако время для публикации «Истории Российской» было упущено. Кстати, Нартов переводчика в Астрахань так и не послал, наверняка к немалому недоумению Василия Никитича. Недоумение губернатора вскоре возросло, ибо некоторые его приятели вдруг настоятельно порекомендовали ему подкорректировать стиль первой части «гистории». Татищев вчерне написал ее, как и две другие части, в Санкт-Петербурге в течение 1739–1741 годов, умышленно используя «древнее наречие», язык летописей, чтобы дать читателю возможность почувствовать дух русского Средневековья. К тому же «История Российская» сочинялась в форме обширного летописного свода, вобравшего в себя и общую, и уникальную информацию всех сохранившихся русских летописей, летописцев, повестей, житий, а также мемуаров посетивших Русь иноземцев. Сравнивая разные источники, историк выстраивал единый хронологический ряд. В Астрахани пришла пора редактирования: изъятия повторов, снятия противоречий, добавления логически недостающих эпизодов. К весне 1743 года Василий Никитич завершил шлифовку тома, посвященного периоду Киевской Руси (от 808 до 1238 года), снабдил его «предъизвесчением» (предисловием) о более раннем прошлом славянских племен по сведениям из римских, византийских, арабских хроник и, похоже, очень надеялся на издание книги либо в 1743-м, либо в 1744 году.
И, на тебе, из-за неких «слепых феологов предкновений» пришлось готовый текст перекладывать на «настоясчее наречие». Что же случилось? Кому понадобилось под благовидным предлогом тормозить, если не срывать оригинальный проект? Правда, Татищев — не единственный, кого тогда «обидели». Миллер столкнулся с неменьшими неприятностями. 16 марта 1744 года на заседании Конференции профессор инициировал учреждение при Академии наук Исторического департамента. Но замечательная идея по какой-то причине не нашла понимания наверху, о чем Шумахер уведомил членов Конференции 6 апреля. Странно, что до сих пор считается, будто советник действовал в пику Миллеру по собственной инициативе, хотя он не скрывал, что озвучивает официальную — сенатскую — точку зрения. В том же году произошел еще один казус. В январе Василий Тредиаковский закончил перевод на русский язык для великого князя Петра Федоровича «Апофегматы» (сборника изречений) Иоганна Ниренберга, после чего погрузился в тринадцатитомную «Древнюю историю» Шарля Роллена, перевести которую еще в 1738 году велел И. А. Корф, активный сторонник популяризации истории. За разными заботами дело не шибко двигалось вперед, и вдруг в 1744 году процесс набрал завидные темпы: уже 22 марта 1745-го академическая канцелярия запросила у сенаторов санкцию на сдачу в печать сразу трех томов.
Кто же на рубеже 1743–1744 годов был вправе помешать академической типографии растиражировать сочинение историка, почитаемого Шумахером, отклонить важную структурную реформу в рамках Академии наук, а ее секретаря, перегруженного делопроизводственной рутиной, усадить за энергичный переводческий труд? Реально — только императрица, заметим, имевшая в личной библиотеке оба многотомника Шарля Роллена — и по древней, и по римской истории. А вот зачем дочери Петра это понадобилось, попробуем установить. Елизавете предстояло назвать имя автора, который напишет полную русскую историю. То, какой она ей виделась, подсказывает Тредиаковский: по форме изложения — как у Шарля Роллена. Что касается автора, то, судя по всему, сама государыня больше симпатизировала Миллеру, стремившемуся к максимальной объективности, принципиально отвергавшему какую-либо зависимость историка от чего-либо и кого-либо, в том числе от монарха, вероисповедания и общественного мнения. Однако патриотическому окружению царицы импонировал Татищев, русский, сподвижник Петра, с почти законченной рукописью «Истории Российской» на руках. И ничего, что на «древнем наречии». Осовременит, если потребуется.
Данное столкновение пристрастий породило компромисс: императрица уступила в вопросе о департаменте, Василий Никитич взялся за «переложение». Тайный советник очень спешил. Должность губернатора, возраст и связанные с ним болезни не помешали к июлю 1745 года усовершенствовать «близ половины» первой части {66} 66 См.: МИАН. Т. 7. С. 25, 26, 337, 341, 342; Т. 8. СПб., 1895. С. 211, 363; Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 г.: В 4 т. Т. 2. СПб., 1899. С. 13, 14; Татищев В. Н. Указ. соч. С. 313, 314.
. А потом… сановник угодил в опалу, причем весьма необычную. За калмыцкий кризис, случившийся по вине Татищева (подробности ниже), Елизавета Петровна 16 сентября 1745 года отправила его в отставку, а через девять дней предписала «жить… до указу в деревнях ево, а в Санкт-Питербурх не ездить». Конечно, сей мерой в первую очередь укрепляли пошатнувшееся доверие калмыков к российской власти и заглаживали обиду калмыцкого наместника Дондук-даши, которому весьма льстило, что недруг очутился под надзором в деревне. Но, с другой стороны, находившийся вне императорской резиденции, изолированный в деревне Татищев уже не мог претендовать на звание первого русского историографа, ведь в отрыве от важнейших документальных коллекций страны российскую историческую науку не создашь.
Интервал:
Закладка: