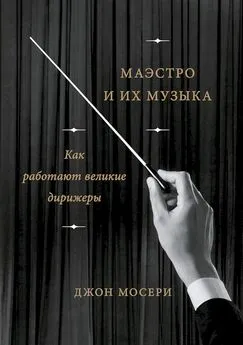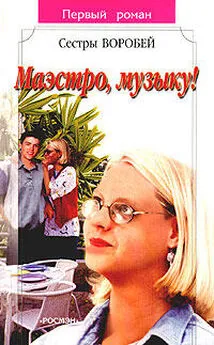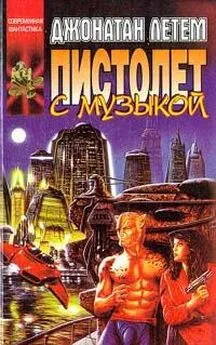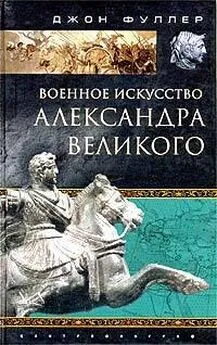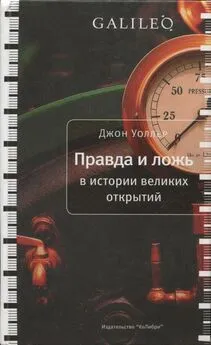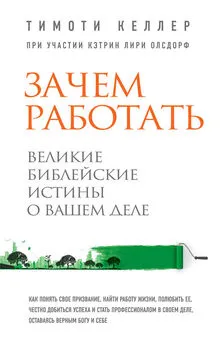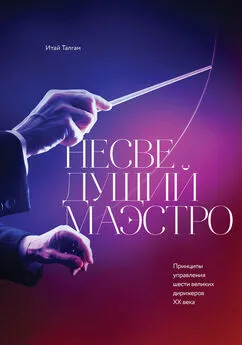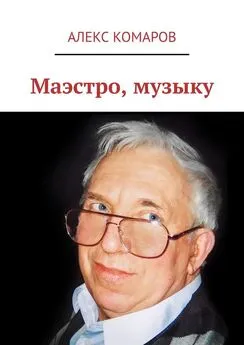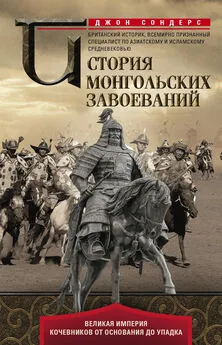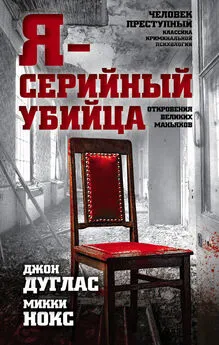Джон Мосери - Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры
- Название:Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Манн, Иванов и Фербер
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00117-642-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Мосери - Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры краткое содержание
На русском языке публикуется впервые.
Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно подумать, что исполнение собственной музыки — нечто предельно естественное, ведь вы представляете музыкантам свое в и дение напрямую, без посредника, интерпретирующего ноты. Любой композитор скажет, что подготовка к исполнению собственного произведения означает возвращение к самой его сути и перевод ее в практическое измерение. При этом многие композиторы совсем не практичны. А еще им приходится возвращаться к дорогам, по которым они когда-то решили не ходить.
Выступая со своей музыкой, вы снова открываете ее для себя. Это накладывает на вас огромную ответственность, хотя ни один слушатель о ней и не подозревает. Достаточно бросить один взгляд на ноты собственных произведений Малера и Штрауса, которые они использовали для выступлений, чтобы увидеть, сколько правок и пометок цветными карандашами внесено поверх напечатанных нот. Некоторые изменения объясняются желанием переписать произведение. (В музыкальной библиотеке Йельского университета есть карманная партитура Симфонии № 3 Сибелиуса, куда карандашом дописаны ноты. Это изменения, «внесенные господином Сибелиусом», когда он посещал летнюю школу в Йеле в 1914 году.) Иногда коррективы вносят, чтобы приспособить произведение к сильным и слабым сторонам конкретного оркестра и зала, в котором предстоит выступить. В других случаях они связаны с необходимостью адаптировать произведение к современности. Говорят, творцы не заканчивают произведение искусства — они просто останавливают работу.
Всё это предполагает, что композитор должен быть компетентным дирижером. Однако композитор Аарон Копленд не был дирижером; он не мог уверенно держать ритм и не отличался харизмой. В 1975 году я оказался в Париже. Я работал над исполнением Равеля в том же здании, где Копленд репетировал концерт собственных произведений с Филармоническим оркестром Радио Франции. Когда музыканты почувствовали слабость Копленда, они стали вести себя настолько грубо, что руководству оркестра пришлось вмешаться. После первого, очень трудного, репетиционного дня Копленда попросили прийти на пятнадцать минут позже, чтобы администрация успела провести «профсоюзное собрание». Никакого собрания не было. Администрацию так обеспокоило поведение оркестра, что ему пятнадцать минут объясняли, кто такой Копленд и почему он заслуживает уважения. Этот серьезный урок показал мне, насколько безжалостными бывают оркестры, если чувствуют слабину.
Порой композитор, который не является в полном смысле дирижером, испытывает трудности со сложными размерами в своем произведении. Стравинский так и не научился свободно дирижировать «Великую священную пляску», которой заканчивается «Весна священная», и переписал ноты так, чтобы можно было правильно показать размер. По его словам, сочиняя эту музыку в 1913 году, он знал, как она должна звучать, но не был уверен, как ее записать.
В 1943 году он выпустил отдельное издание этой последней части балета, известного своей сложностью, по-другому расставив такты. В конечном счете, отредактировав всю работу спустя несколько лет, он отказался от этого и вернулся к версии 1913 года. Тем не менее когда его многолетний ассистент Роберт Крафт, который готовил оркестры для работы со Стравинским, дирижировал «Весну священную» в исполнении Американского симфонического, он тоже изменил некоторые разделы, чтобы упростить распределение сильных долей. Поскольку музыка уложена в ритмическую сетку, ее можно записать разными способами и получить при этом один и тот же звук. Передвигая тактовые черты на нотной бумаге, мы меняем всего один элемент — место сильной доли, которую показывает дирижер. Оркестр следует за ним и играет ее соответственно.

Ксерокопия партии скрипки, использованной, когда ассистент Стравинского Роберт Крафт дирижировал «Весну священную». Заметьте, что между 46 и 47 восемь тактов с постоянно меняющимся метром заменены на четыре такта с простым трехдольным (пометка «1 2 3, 1 2 3» и т. п.)
Хотя это, возможно, не очевидно, но дирижеру крайне важно отбивать такты абсолютно так, как написано в партитурах; только в таком случае между нотами всех играющих будут правильные отношения. В конце концов, тактовая черта невидима. Изначально ее ввели, чтобы упростить исполнение музыки, а не усложнить ее. Стравинский-композитор подверг эту идею сомнению в 1913 году, отчего у Стравинского-дирижера случился стресс, который продолжался с первой (местами хаотичной) записи «Весны священной» в 1929 году до последней (более техничной, но неоднородной) записи в 1960 году.
Когда дирижер прочитает партитуру и осмыслит ее содержание, наступает следующий, весьма таинственный, этап. Дирижер отправляется в путешествие внутрь нот, чтобы выяснить, почему они начинаются с первого такта и заканчиваются последним именно так, — и путь этот у всех разный. Процесс настолько индивидуален, что, думаю, ни один дирижер не мог бы объяснить его, даже если бы у него появилось такое желание или потребность. Многие сказали бы: «Я даю музыке говорить за себя». Это верно, но, поскольку каждый аспект выступления требует тысячи решений, «за себя» подразумевает здесь очень много сложных вещей.
Представьте на минуту, что вся западная музыка рассказывает историю или, по крайней мере, имеет внутренний нарратив, который порождает ее как процесс. Язык нотной записи — это язык метафоры, отражающий чувства, которые мы испытываем. Это язык, основанный на переводе более быстрых и медленных колебаний (нот разной высоты) в видимый мир более высокого и низкого с целью понимания. Мы видим, что какая-то нота «ниже» (например, басовая), но на самом деле она вовсе не ниже в научном смысле слова. Это мы слышим ее как физически более низкую. Мы привыкли воспринимать самые медленные колебания среди нескольких, звучащих одновременно (то есть аккорда), как «корень». Возможно, так мы принимаем физические законы Вселенной, где в большинстве слышимых нами нот присутствуют более тихие ноты (под названием «обертоны»), которые вибрируют быстрее и придают ноте ее характерность. Вот почему мы чувствуем разницу между до, сыгранным на флейте, и до, сыгранным на скрипке. Каковы бы ни были причины, мы слышим западную музыку так: ноты «строятся» на основе баса.
Например, можно сказать, что первые ноты увертюры «Леонора» № 3 Бетховена «спускаются вниз». На странице видно, как ноты идут вниз по нотному стану. Конечно, у Бетховена перед глазами стоял образ (в конце концов, это увертюра к опере, рассказывающей историю): спуск в тюрьму, где держат мужа Леоноры. Зрителей, которые предположительно еще не знают сюжет, поскольку увертюру играют при закрытом занавесе, уводят «вниз», а потом еще «ниже», шаг за шагом, пока движение не заканчивается фа-диезом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: