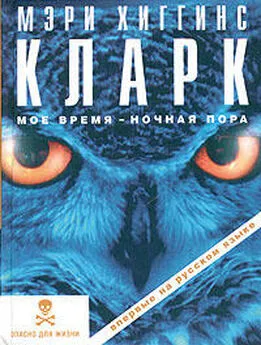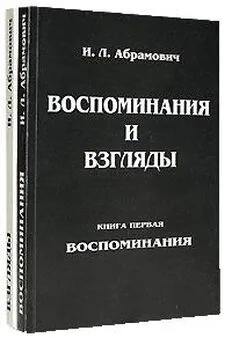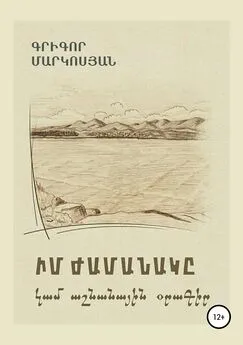Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Название:Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ювента
- Год:2001
- Город:СПб.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний краткое содержание
Мой час и мое время : Книга воспоминаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Народ в камере был, что называется, с бору и с сосенки, и в этом состояла громадная трудность внутреннего порядка и внутренних отношений. Сидели: протоиерей, академик и археолог Борис Федорович Колесников, державшийся на высоте своего сана и служения. Профессор Иван Иванович Лавров — путеец, интеллигент вежливости не нонешней. Несколько агрономов, астроном Владимир Иванович Козлов — молодой ученый. Экономисты, академик-дендролог, фамилию которого забыл, студенты — молодые мальчики, террористы и диверсанты, группа евреев, занявших отдельный угол на нарах и руководимых крупным комиссаром из Казани Левицким, чрезвычайно неприятным человеком. Простые старые люди, не то крестьяне, не то рабочие, робкие и голодные, и, наконец, «свои в доску» уголовные типы — воры, растратчики и даже убийцы.
Понятно, что такое смешение «чистых и нечистых» требовало твердой власти в камере и жестокой дисциплины. Воровство в камере при мне случилось один раз. Вор был обнаружен, жестоко избит и, по требованию камеры, выведен вон. Вспоминаю старика 73-х лет, Туровского — мужа известной профессорши пения Московской консерватории. Он сам всю свою жизнь просидел в Государственном банке в Петербурге, занимал большие должности. Продолжал работать после революции, но вполне, по-видимому, не мог освоить ее идеологии и проникнуться ее духом. И вот он за последний год, не зная, на основании каких строк из Библии, начал предсказывать «конец большевикам в 1933 году» и попал в «Бутырки». Вызванный из камеры к следователю, он стал доказывать ему правоту своего пророчества, был нами за это руган и наставлен в поведении на будущее. Он, между прочим, рассказал чудесный анекдот о Петре Великом: «Как-то Петр крестил у штурмана и спросил его, сколько взял поп за крестины. "Да дорого, Ваше величество". — "Ты что ж, это, Спиридон, не унимаешься? — сказал Петр попу. — Вот тебе мое последнее слово: завтра явись ко мне и скажи, сколько звезд на небе, что стоит моя царская персона, и о чем я думаю. Не скажешь — голову снесу". Закручинился Спиридон. Пришел домой сам не свой. Ну, разве можно сосчитать, сколько звезд на небе, сказать, что стоит его персона — скажешь мало, плохо, скажешь много, льстишь. А потом, что думает Его величество? А у Спиридона был брат Семен, пьяница, поп. "Я, — говорит, — пойду, ты не ходи", — и пошел. "Приказали Ваше императорское величество прибыть". — "А ну, так сколько звезд на небе?" — "Три тысячи сто сорок одна" — "Врешь, сукин сын!" — "Сам три раза считал, Ваше величество, извольте проверить". — "Ну, а сколько стоит моя персона?" — "Двадцать девять серебреников, Ваше величество". — "Почему так?" — "Да Господь Иисус Христос все же подороже Вас был, а заплатили за Него тридцать". — "Ну, хорошо, а о чем я думаю?" — "А что ж, Ваше величество, Вы думаете, что перед вами поп Спиридон, а на самом деле я его брат Семен…"».
Помню, как-то утром увидел я крупного молодого мужчину, бритого, с длинными волосами. Сидит он на нарах и плачет. А мы с профессором Лавровым «держали общий чай». «Позвать его чайку попить, что ли? — сказал я. — Утешить человека». — «Позовите». Пошел, это, я в носках по нарам, подхожу, присаживаюсь на корточки и спрашиваю: «Ну, что же Вы плачете?» — «А-а, как же мне не плакать?» — «Не плачем же мы, не плачьте и Вы. Да кто Вы будете?» — «Я? Я — бас». — «Ну, вот видите, какой солидный голос, а плачете. Пойдемте-ка лучше чай пить». На следующий день бас пел у нас на вечере.
На третий день по доставке меня в Бутырки я был позван к следователю-женщине, разговаривавшей со мной последний раз на Лубянке. Она предложила мне переписать последнее вранье и внести в него ряд небезобидных поправок. Я отказался. Вначале разговор был мирен, затем она стала браниться. Я тогда посмотрел на нее и сказал: «Я сейчас в таком положении, что ничего другого не могу сказать Вам, кроме следующих строк:
Если жизнь тебя обманет.
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет…»
Она примолкла, потребовала себе завтрак и медленно стала его есть передо мною, щеголяя маникюром. А я, небритый, голодный, в неряшливом платье, сидел перед нею и ждал, что она будет делать со мною дальше. Позавтракав, она позвонила кому-то по телефону и сказала о моем отказе внести добавления. Выслушав что-то в ответ, она вывела меня в коридор и приказала мне ждать, стоя в углу. Прошло четыре часа, прежде чем она вновь позвала меня и спросила, одумался ли я. «Конечно, нет, — ответил я. — Ваше "наказание" только озлило меня». Она позвонила и отправила меня в камеру.
Последняя моя беседа со следователем, уже Оленцевым, была в Пасхальную ночь, 1 апреля. Он спросил меня, как я себя чувствую и не расскажу ли ему о своих занятиях гипнозом. Я улыбнулся: «Лекция в три часа ночи — занятие столь же забавное, сколь и грустное». После этого мы мирно проговорили с час и о гипнозе, и еще о каких-то посторонних вещах. Провожая меня, Оленцев сказал: «Не опускайте крылья, все будет хорошо». С тех пор в камере, где я рассказал это, да и я сам, стали верить, что меня со дня на день должны отпустить.
А время подходило уже к 1 мая. Если бы в первые дни кто сказал мне, что я могу просидеть месяц-два, я не поверил бы и пришел в отчаяние. Но… «Всюду жизнь», как в известной картине Ярошенко. И к чему только человек не привыкает. В камере говорили, что я «рожден для нее». И мое спокойствие, ровное, веселое поведение заставляло людей искать общения со мною. Мне отказали в очках и лишили меня возможности чтения, но Козлов и другие по очереди читали мне, и это было истинным удовольствием. Вообще, хороший человек больше познается и больше ценится в несчастье. Это давно известно. Но должно быть, и несчастье часто выявляет в человеке хорошее, скрытое раньше. Мне везло на хороших людей в тюрьме.
Шумная, гудевшая сотней голосов камера, помимо ночи, затихала в двух случаях — это когда открывались двери камеры, и когда с «пересылки», обыкновенно вечером, вдруг неслось: «Камера 44 — Петров на пять лет, Иванов на десять лет, Семенов на три года и т. д.» Это означало, что взятые днем из камеры, узнав в «пересыльной» сроки своих наказаний, доводили их до сведения оставшихся. Вечерние эти вещания производили сильнейшее впечатление: все затихали, все слушали, затаив дыхание. Это была проверка предположений, это была основа для выводов о себе. Затихала камера и во всех случаях, когда открывались ее двери, и на пороге появлялся «чин». Это означало, что кого-то вызовут или к следователю, или «с вещами». А это были моменты, которых все ждали и которых боялись. В камере верили, что вызовы днем никогда не приводят домой. Ночные же — очень часто. Несомненно, в этом была доля истины.
А вообще же «заключений», «наблюдений» и, главное, «примет» было множество. Все становились суеверными. Севшие на подоконник воробьи и голуби означали число вызванных с вещами в этот день. Гадали на спичках, гадали на картах, которые делали и берегли с величайшей осторожностью. Выпущенные домой должны были тут же на углу сломать свою ложку, чтобы не вернуться обратно. Помню одного рабочего-коммуниста, гадавшего все время и себе, и другим на картах. Его вызвали ночью «с вещами». Собираясь, он в камере раздал все свое тюремное имущество и передачу, полученную им в этот день из дому. «Я иду домой». На следующий день мы увидали его выглядывающим с третьего этажа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: