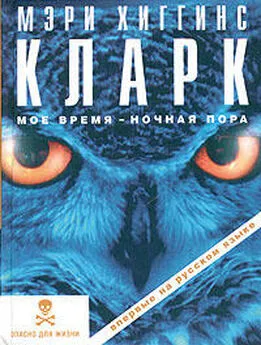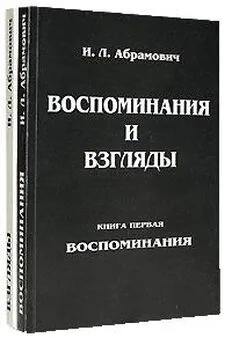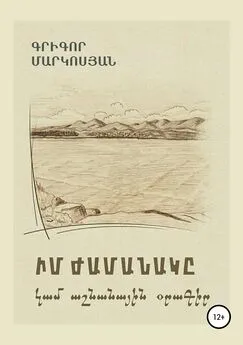Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Название:Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ювента
- Год:2001
- Город:СПб.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний краткое содержание
Мой час и мое время : Книга воспоминаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во время этих препирательств вошли к нам в кабинет еще двое: один, похожий на «Анатэму», — старший следователь Рогожин, — и совсем начинающий — Оленцев. Гиммельфарб, с плохо разыгранным возмущением, обратил внимание Рогожина на мое запирательство, и последний обрушился на меня с «матом» и кулаками. Все было рассчитано на то, чтобы оглушить, огорошить криком, угрозами, оскорблением. Первую минуту я пытался что-то сказать, остановить этот поток брани, но тут же понял, что это ни к чему, и замолчал.
Набесновавшись, Рогожин ушел, а вслед за ним, изящно и легко, вошел старший рангом Якубович — элегантный, вылощенный, вкрадчивый. Приемы этого были другими. Он начал с того, что, взглянув на меня, стал припоминать, где он со мною встречался. Спросил фамилию, а затем рассыпался в комплиментах, говоря, что я в Алабине «царь и бог», и закончил замечанием для Гиммельфарба, что я «тонкий враг, с которым нелегко, по-видимому, будет справиться».
После его ухода продолжалось наше сидение с Гиммельфарбом. Ему явно наскучило убеждать меня. А я не ел больше суток, устал и был полон новых впечатлений и новых откровений в бытии. Мне хотелось закрыть глаза и забыть хоть на мгновение о том постыдном, чему «свидетелем Господь меня поставил». Но этого сделать было нельзя. Гиммельфарб требовал от меня открытых глаз и признания, то уговаривая, то угрожая холодной и жаркой комнатами и еще чем-то неведомым и страшным. И тут же звонил своей даме сердца, по-видимому, машинистке, уговаривая ее никого, кроме него, не любить и убеждая в своей верности навек.
Так тянулось это нудно и трафаретно до двух часов ночи, когда, наконец, Гиммельфарб при мне позвонил Рогожину и сказал ему: «Прошло семь часов, но добиться ничего не могу». Выслушав ответ, он предложил мне идти за ним, причем в последнюю минуту разыграл ко мне, не хотящему разоружиться, чувство гадливости честного революционера к подлому «к.-р.» И как ни слабо было это сделано, это не смешило тогда, а оскорбляло.
Шли мы низкими лестницами вниз до подвала, где помещался «собачник». Так называлось помещение для арестованных, куда приводили их с воли. Здесь Гиммельфарб сдал меня приемщику, а последний запер меня в камере, где было уже несколько человек. Все лежали в верхнем платье на асфальтовом загаженном полу. Я постлал газету и лег на нее. Не успел задремать, как меня вызвали в коридор и приказали «раздеться, как в бане». Обыскав белье и платье, и осмотрев мое тело, приказали одеться и свели в маленькую одиночную камеру, где я тоже лег на пол и только что начал дремать, как опять был позван и сведен в душ и дезинфекционную камеру. Вода, как всегда, произвела на меня отличное действие. Она вернула меня мне, успокоила, и единственная была частью прежней моей жизни.
«В подвал А, камера три», — услышал я, когда меня повели из душа. Прошли через маленький двор, спустились вниз, вошли в коридор, открылась и закрылась дверь камеры. Первое впечатление — тепла и даже уюта. Пять человек, бывших в камере, проснулись, перекинулись со мною несколькими словами. Я постлал свою газету на пол, лег и только что успел опять задремать, как раздался сигнал к вставанию и уборке. Было 6 часов утра 20 февраля.
Дневной свет в камеру из оконца под потолком проникал очень слабо, и освещалась она непотухающим электричеством. Камера была мала. В ней стояли четыре койки, две дополнительно помещались на полу. Матрацы на день свертывались. Ложиться днем запрещалось. Ходить было совершенно негде, и все сидели на оголенных кроватях. Ни одеял, ни простынь, ни подушек не полагалось.
Заключены в камере были: известный профессор церковного права Гидулянов, два агронома, из которых один подозрительно был поставлен в привилегированное положение (книги, свидания, другой стол), почтенный доктор А.Н.Краевский из областного Московского института, как оказалось потом из нашего разговора с ним, привлеченный «по нашему делу», и очень вежливый, в прошлом лицеист, а теперь фотограф из Серпухова.
В десять часов утра меня вызвали к следователю. «Занимался» со мною Оленцев. Несомненно, он натаскивался на мне, приобретая профессиональные навыки. Был неловок, излишне развязен, глуп. Я не стал вовсе разговаривать с ним. И он, с плохо разыгранным гневом, отослал меня.
Вернувшись в камеру, я стал расспрашивать Краевского, что значит весь этот дурной сон? И он ответил мне, что так же мало знает, как и я, но от него требовали показаний в участии в «к.-р.» врачебной организации, и он «признался». Остальные в камере тоже подтвердили, что другого выхода нет и быть не может. Для чего «это» нужно, никто не знает, но что это «так нужно», все знают. «Вас будут допрашивать и мучить все равно до тех пор, пока Вы не признаетесь. Проще сразу написать, что им нужно. Не путайте только людей лишних в это дело, а ограничивайтесь теми, кто уже признался». А профессор Гидулянов сказал: «Я написал вчера у следователя "роман" и об одном просил его, чтобы никому из моих товарищей и знакомых этого романа не читали и не показывали».
Я слушал все это, верил им и не верил, до того чудовищным казалось все это, и наконец освоил и поверил. И когда настала ночь и я только что уснул, и меня вызвали к следователю, я пошел с ясным намерением — «написать и признаться». Пенсне мое при обыске отобрали, Гиммельфарб достал из своего стола несколько пар пенсне и с большой услужливостью предложил мне выбрать подходящее. Я стал писать.
Но о чем и что писать? Врачебных знакомств я никогда не поддерживал и ни у кого из врачей не бывал. У меня в Алабино, кроме Печкина, из врачей тоже никто не бывал, да и последний приезжал не ко мне, а на могилу своей дочери. Нужно же было быть членом периферийной врачебной «к.-р.» организации, которой руководили доктора Печкин и Никитин, работавшие в Москве и связанные с центральной организацией.
Я написал правду о своих взглядах, о том, что не одобрял политику советской власти по отношению к церкви, религии и интеллигенции, и написал ложь о своем пребывании в «к.-р.» организации. Последняя вышла очень слаба за отсутствием какого-либо фактического материала и лиц. Гиммельфарб прочитал это, поправил мой черновик, даже старался помочь мне, и к шести часам утра на двух страницах обыкновенного писчего листа «признание» мое было готово.
Когда я вернулся в камеру, лечь спать уже не пришлось. В десять часов утра меня снова вызвали к следователю. Опять Оленцев: «Написали филькину грамоту, кому она нужна». Разговор был не долог. Мы «разошлись на Пушкине», и Оленцев сердито приказал отвести меня обратно. Ночью вызов к Гиммельфарбу. Он получил новое назначение и потерял всякий интерес ко мне. Но тем не менее, его беспокоила моя исповедь. По-видимому, ему попало за нее. Особый интерес на этот раз к доктору Д.В.Никитину и его пребыванию за границей у Горького, в Сорренто, в зиму 1931–1932 годов, и свидание с дочерью Льва Толстого — Татьяной Львовной Сухотиной — в Риме. Я правдиво передал, что слышал в свое время от Дмитрия Васильевича. Все было просто, без заговора и не контрреволюционно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: