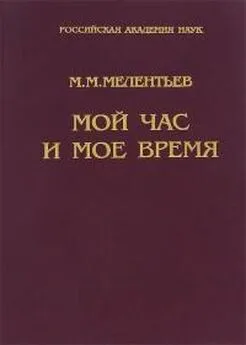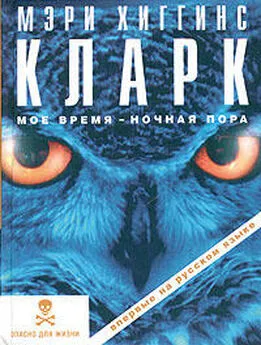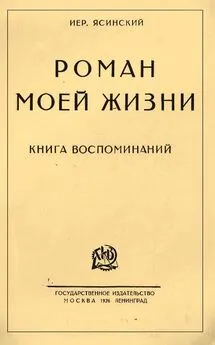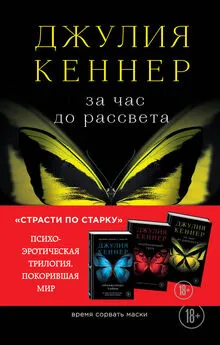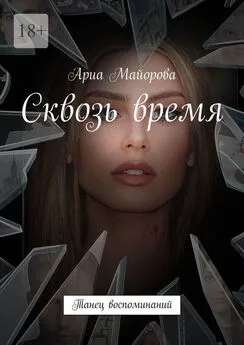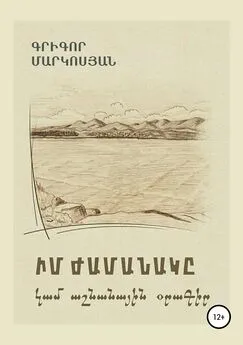Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Название:Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ювента
- Год:2001
- Город:СПб.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний краткое содержание
Мой час и мое время : Книга воспоминаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С благодарностью вспоминаю «Политический Красный крест» на Кузнецком мосту и до сих пор не понимаю, как позволено было существовать этой человеколюбивой организации. Многим она меня утешила, во многом скрасила жизнь Володи в Бутырках. Сколько раз в течение летних месяцев поднимался я на третий этаж тоже неприглядной квартиры, где несколько женщин, возглавляемых Екатериной Павловной Пешковой, творили свое доброе дело. Это они сообщили, где он, это они пересылали в сроки и без сроков передачи в тюрьму, это они могли сообщить хоть что-нибудь о здоровье заключенного и о ходе его дела, могли передать в нужные руки ходатайство и бумаги, смягчающие его судьбу.
Они же сообщили и приговор, и устроили свидание с ним. С раннего утра занималась там очередь в определенный дни, по буквам алфавита. Трепетная толпа, объединенная одним горем, толпа не рынка, не зрелища, а тюрьмы, облагороженная любовью и страданием. Там были рады уже тому, что брали передачи «ему» и от «него» передавали мешочек с грязным бельем. Значит, «он» на месте еще и здоров, ибо в больницу передачи не брали. И сколько было там примет благоприятных и неблагоприятных, и сколько было там «опытных и знающих» толкователей этих примет!
В декабре кончилось Бутырское пленение Володи и началось Кемское. Это было за много сотен километров дальше от Бутырок, но ближе по связи, по возможности обменяться письмами. Началось житье ими и посылками ему. В этом, по существу, и прошли два года в Алабине — 1931-й и 1932-й.
Расскажу попутно историю еще одной жизни.
20 мая 1931 года. «Многоуважаемый Михаил Михайлович! Шлю Вам привет из Наро-Фоминской больницы. Лежу в заразном бараке. Чувствую себя плохо. Все болит, и особенно левый бок. Температура повышена. Просила дать мне бумагу о моей болезни и нетрудоспособности, но мне ответили — пока полежите. Сердце мое все истерзалось. Осталась я одна. Дуню, наверное, пока я в больнице, угонят, как угнали уже многих. Боюсь, как бы Антонию без меня не взяли. Взойдите в мое положение! Что буду я делать одна, когда не в состоянии понести и 5 фунтов. Хотя бы Вы что-нибудь мне написали и с кем-нибудь ручно передали. Письма и посылки в больницу передают, но личного свидания не разрешают. Может быть, Вы увидите Антонию. Скажите ей, чтобы прислала мне молитвенник и Часослов маленького формата. Неизвестность хуже всего. Буду ждать от Вас какого-нибудь слова. Не забывайте меня, находящуюся в большом горе и всегда Вас уважающую. Игуменья Афанасия».
В 1925 году на Пасхальной неделе пришла на квартиру ко мне в Алабино монашенка, низко поклонилась и передала мне просьбу от сестер Зосимого монастыря навестить их больную игуменью.
Лестные слухи о ней дошли до меня давно. В 1923 году в «Известиях» был «подвал» о ней как о человеке, «наследственно расположенном управлять и властвовать». Игуменья Афанасия из богатой купеческой семьи Лепешкиных. Дед ее, Лепешкин, Сергей Логинович, построил Зосимов монастырь на свои средства в 40-х годах девятнадцатого столетия. И что скрывать, мне давно хотелось и в монастыре побывать, и игуменью повидать, так что эта просьба шла навстречу моему желанию и я охотно назначил день визита.
Через несколько дней, на опушке леса, у уединенной платформы ждала меня приличная пролетка со стариком-кучером на козлах. Дорога по лесу, местами еще покрытая снегом, была ужасна. Пять-шесть верст мы ехали около двух часов. Вот уж действительно пустыня — ни пешком, ни на колесах не добраться: болота, кочки, заросли, дороги никакой. Наконец, показались башни и белые стены монастыря. Подъехали к «Святым воротам». Монастырский двор-кладбище был не обширен, тих и пустынен. В центре стоял небольшой белый храм, окруженный намогильными крестами, кое-где с горящими лампадами. По мосткам прошли к игуменскому корпусу, где меня встретила маленькая, согбенная старая монахиня, ласковая и приветливая. В корпусе стоял какой-то давний, уютный запах — древней мебели, печеного хлеба, ладана. Тикали часы, и стояла ничем ненарушимая тишина. Монахиня пригласила меня к столу «откушать», а сама пошла доложить игуменье о моем приезде.
Попросили меня к ней не вдруг. Я, что называется, был «прилично задержан». Ну, а затем, поднявшись во второй этаж по внутренней лестнице, увидел на белоснежной постели, у чудесного ковра на стене, красавицу игуменью в белом апостольнике, большеглазую, черноокую, не молодую, но и не старую, нет, а очень моложавую, с прекрасным цветом лица. Держалась она величаво-спокойно. Говорила чуть-чуть нараспев с низкими контральтовыми нотами. Ближайший угол и стена были заняты образами. У большого распятия горела лампада и стоял аналой.
И тут я себе ясно представил сцену, о которой мне рассказывали раньше: «Игуменью Афанасию попросили быть на заседании уездного исполнительного комитета. Происходило заседание в клубе, на сцене. Игуменья пришла в сопровождении своей келейницы, строгая, стильная в своем монашеском одеянии, и красивая. Кто-то из исполкома, нарушая неловкость, внесенную ее появлением, стараясь шутить, сказал, указывая на портрет Маркса: "А вот, матушка игуменья, Маркс. Он является, собственно, учеником первого социалиста Христа". Мать Афанасия обвела неторопливо сцену глазами и ответила: "Вот портрет ученика вы поместили здесь, а почему же нет портрета Учителя?"».
Здоровье игуменьи оказалось в очень плохом состоянии. Двадцать семь лет жила она в этом монастыре, в сыром лесу, в болоте с давней малярией, лихорадила годами, не лечилась, и это разрушило ее организм. Семнадцати лет, после института и уроков музыки у знаменитого Пабста, пришла она сюда и с тех пор почти не выезжала. Я сказал ей, не скрывая, о ее положении и предложил на ближайшее лето выехать в другое место и попытаться полечиться там. Требование было жестоким. Положение в монастыре было сложно и внешне, и внутренне. Но это нужно было сделать, если она хотела жить и работать! А она хотела и того, и другого. В монастыре было до трехсот человек сестер, в том числе 60 беспомощных старух. Всех их нужно было прокормить, отопить, одеть, обуть. Только последние три-четыре года монастырь, после революционных потрясений, вновь оправился и перестал голодать. Но счастье это было очень непрочно. Политика и в центре, и на местах клонилась к новым ограничениям монастырских порядков, и нужны были бдительность и неусыпное внимание, чтобы как-то держаться, как-то спасаться, как-то лавировать. Поплакала игуменья, погоревала, и все это — с ясным сознанием огромной ответственности за триста душ, и отпустила меня, не дав ответа.
Однако в дальнейшем ухудшение здоровья заставило ее смириться. В Алабино было сухо, солнечно, дачу можно было снять, больница и я были рядом, и мать Афанасия решила на лето переселиться «под мою руку». А я взял на себя ответственность поднять ее на ноги. Это была трудная задача, но Бог помог мне, и к концу лета моя больная настолько поправилась и окрепла, что смогла вернуться к себе и приняться за свои дела. А мы стали друзьями. Сколько раз потом бывал я в монастыре, в его тихой ограде, на вечерних и утренних службах, бывал с наслаждением и уважением к женщинам, создавшим чинное благолепие церковного служения, крепкую рабочую общину, широкую благотворительность, благотворное и благородное влияние на окружающее деревенское население.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: