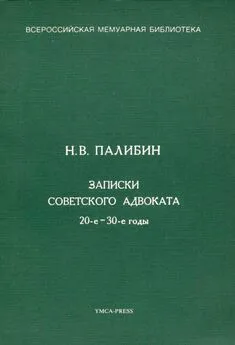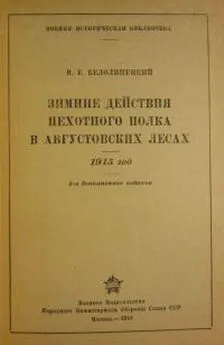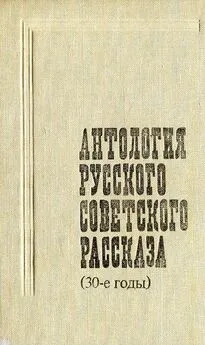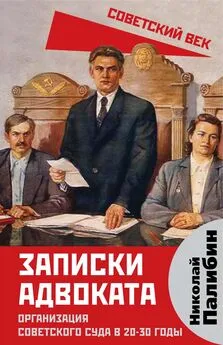Николай Палибин - Записки советского адвоката. 20-е – 30-е годы
- Название:Записки советского адвоката. 20-е – 30-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:YMCA-PRESS
- Год:1988
- Город:Paris
- ISBN:2-85065-127-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Палибин - Записки советского адвоката. 20-е – 30-е годы краткое содержание
Записки советского адвоката. 20-е – 30-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
7 руб. килограмм — это за мясо для питания советского обывателя. Кожа — для защитников советской власти, для командиров и бойцов Красной армии, а для колхозов — ни копейки: они получают только акт от бойни для списания лошади с баланса, так как Госстрах платит лишь в случае падежа от болезни, но не за убой по причине истощения.
В сущности, эту колбасу в цивилизованном государстве не допустила бы к продаже ни одна санитарная инспекция, так как бойня не имеет ни водопровода, ни вентиляции, ни холодильника. Я видел это мясо, срезанное и содранное с подвешенных конских туш: оно голубого цвета, все в пленках, его бросают кусками в деревянные бочки с рассолом, а кишки для колбасы промывают тут же в стоящих деревянных кадушках. Тысячи зеленых и черных мух крупного калибра роятся и гудят, как на пчельнике, над этим скользким синим мясом.
Если вы входите в магазин, когда туда привезли партию казанской конской, вас одурманивает тяжелый запах лошадиного пота и какого-то смрада. Но люди стоят уже густой очередью, и вы становитесь тоже…
И вот я отдал той женщине и ее дочурке полкилограмма такой еды. Ничего больше у меня не было.
Но это еще не был голод. Голод был еще впереди. Это были лишь зловещие предвестники идущего голода, друга партии и правительства и помощника их в мероприятиях по проведению сплошной коллективизации в деревне.
В сельсовете станицы Старо-Михайловской женщина-председатель на мой вопрос о несчастных сказала примерно следующее:
— Знаю и без вас. Да у нас у самих высылка, и лошадей нет, послать нечего. Да, кроме того, эта кулачка из станицы Темиргоевской, обращайтесь туда… Вон там на станции одному кулаку вагонной дверью руку оторвало, чего же я одна за всех должна отвечать?
Я зашел к секретарю станичной партийной ячейки. Он был всклокоченный, не спавший ночь, и грубо меня спросил:
— А вы кто такой, ваше социальное положение? Ну так вот: обойдемся и без защитников, революция не пострадает, если кулаки погибнут, хоть и все.
Казалось бы, что после такого расслоения деревни, бесчеловечно жестокого троекратного погрома, когда весь неблагонадежный элемент и кулаки были «изъяты», дело коллективизации деревни должно было бы идти успешнее. Однако нет: эта гнилая промышленно-экономическая система, хотя и насыщенная тракторами, комбайнами, агрономами, различными льготами и ссудами, могла возникнуть и существовать только под кнутом и насилием. Нажим администрации и судов на единоличников с целью разрушения их хозяйств и принуждения вступить в колхоз все усиливался, пощады не было и оставшимся после трех высылок середнякам и беднякам. Возникали дела об агитации против колхозов и о преступлениях внутри колхозов, а также «дела о ямах», в которые крестьяне прятали хлеб от ненасытного правительства.
Народные суды получили право вынесения приговоров наравне с краевыми судами, т. е. право расстрела (до этого они могли давать максимум 10 лет лишения свободы с последующей высылкой на 15 лет). В помощь местным народным судьям стали посылаться «гастролеры» — судьи из Ростова-на-Дону и Екатеринодара, натасканные и получившие «зарядку» в краевых центрах.
Четыре моих клиента обвинялись в агитации против колхозов в глухом хуторе Скобелевском. Дело разбиралось на месте преступления налетным судьей из Ростова. Обвинение было построено по ст. 58–10 УК РСФСР с лишением свободы до 10 лет, хотя, как я указывал ранее, в этой статье говорится лишь о «призыве к свержению, подрыву или ослаблению советской власти». Коллективизация на этом хуторе проходила следующим образом. Люди никак не хотели обобществлять своих лошадей и вступать в колхоз. Однажды глухой ночью вспыхнул огромный пожар: загорелся большой стог соломы в степи невдалеке от хутора. В церкви ударили в набат, сельсоветчики и активисты бегали по хутору с криками, увеличивая панику, и выгоняли всех на тушение огня. Когда солома благополучно сгорела и люди вернулись на хутор, они увидели, что лошади их «обобществлены» и стоят уже в изъятых крестьянских конюшнях, отведенных под колхозное хозяйство.
Прокурор, широко жестикулируя руками, громовым голосом требовал для моих клиентов 10 лет, указывая на их особую социальную опасность. Он громил этих несчастных крестьян, сидящих с опущенными головами на скамье подсудимых, называл их «позорными» именами кулаков, подкулачников, врагов и т. д. Процесс был так называемый «показательный», на страх всему хутору, собравшемуся слушать дело. Что можно было сказать в защиту этих людей, если они совершили «преступление» не против соседа или частного лица, а против государства? Это такой случай, что защитник обвиняемых может лишиться еще и своей головы, так как эти дела считаются делами особой политической важности.
Настроение слушателей, сидящих и стоящих густой толпой в помещении, в окнах и дверях, было мрачное и тяжелое. Мне казалось, что каждый думал: «Не только свели лошадей со двора, как конокрады, а еще и судят нас! Где же правда, где закон, где найти защиту, делают с нами, что хотят…»
Прокурор закончил эффектным жестом руки: я требую 10 лет!
Я решил действовать против «них» тем же оружием. Схема моей речи была примерно такова: «Прокурор утверждает, что это социально опасные люди… Это глубокая ошибка. Колхозное движение неудержимым потоком охватило крестьянство земли русской; крестьяне уже не спорят, что лучше: единоличное хозяйство или колхоз. Они спорят лишь о том, как лучше поставить дело внутри колхозов. Обвиняемые же подобны муравьям, пытающимся переплыть этот неудержимый бурный поток колхозного движения. Поэтому они не социально опасны, а социально смешны и все равно будут захвачены этим могучим течением крестьянской массы.»
Я делал вид, что говорю искренне и с воодушевлением, и продолжал так: «К тому прогрессу крестьянского хозяйства, о котором говорил тов. прокурор, я добавлю, что партия и правительство шлет в деревню невиданную до сих пор не только у нас, но и за границей механизацию и агрономическую помощь всех видов. Правительство помогает крестьянам поставить колхозное сельское хозяйство на высоту технических и научных знаний, а они, обвиняемые, все еще держатся за хвост слепой кобылы. Это деревенские комики. Правда, дураков и в церкви бьют, но здесь же советский суд! Я усматриваю в них не социально опасный элемент, а комический, а потому прошу оставить их на свободе, чтобы на колхозных собраниях можно было бы не только обсуждать серьезные деловые вопросы, но иногда и посмеяться над этими чудаками, желающими ковырять землю однолемешным плужком, когда трактор тянет 12 лемехов на любую глубину. Тем более что обвиняемые, будучи маломощными середняками, не могут по своему классовому положению быть противниками рабоче-крестьянского правительства».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: