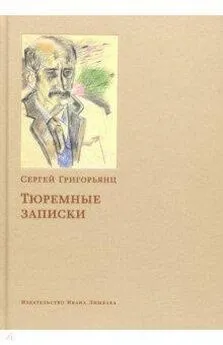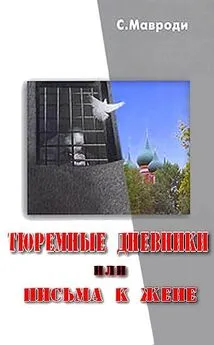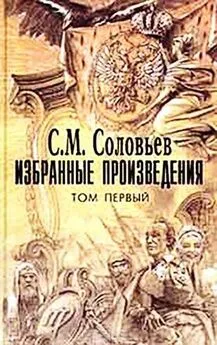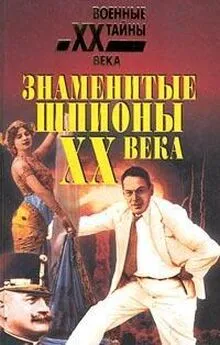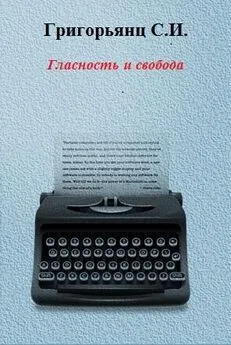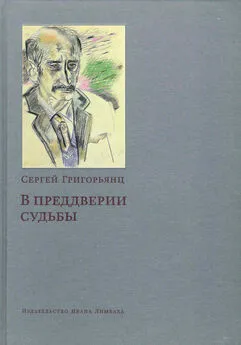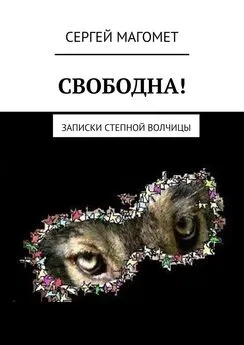Сергей Григорьянц - Тюремные записки
- Название:Тюремные записки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИД Ивана Лимбаха
- Год:2018
- ISBN:978-5-89059-337-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Григорьянц - Тюремные записки краткое содержание
Тюремные записки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Меня за беспокойную реакцию на смерть Марка опять перевели на полгода на строгий режим (это тюремный вариант лагерного штрафного изолятора — пониженная норма питания, невозможность купить что-то из продуктов в ларьке, сокращенная прогулка, отсутствие свиданий, бандеролей), Мишу Ривкина — за однодневную голодовку протеста — в карцер, и я попал в камеру к Янису Баркансу, который тоже был на строгом режиме.
Его убивали у меня на глазах очень спокойно и методично. Это был молодой латыш, лет двадцати пяти. Однажды он понял, что жизнь в Советском Союзе ему не нравится, и решил нелегально перейти границу с Финляндией. Нашел карту, наметил дорогу, уговорил приятеля бежать вместе с ним. Когда приехал в Выборг, вместо напарника его уже ждали гэбисты. Получил три года по ст. 190-I и попал в уголовную зону на окраине Риги. Кто-то из начальства посчитал, что он обязательно должен во всем покаяться. Янис каяться не желал, повышенную для него производственную норму не выполнял и оказался в лагерном ШИЗО. Там, как и во многих советских тюрьмах, была своя «пресс-хата», где садисты из числа зэков за премиальные пачки чая и другие мелкие подачки с удовольствием истязали тех, кого им подбрасывала администрация — с воспитательной, конечно, целью. Яниса недели две зверски избивали, истязали как могли, всю еду его, конечно, забирали, и в результате вместо покаяния в один из вечеров обнаружили, что он уже не дышит. Сообщили охране, и его тело вынесли в сарай, где уже была пара покойников из санчасти. Хотя была зима и Янис практически раздетый пролежал ночь в сарае, пришедший утром санитар обнаружил, что он еще жив. Решили, что отписываться из-за покойника слишком хлопотно и перенесли в больничку. Оказалось, что, кроме множества ран и кровоподтеков, у него сломаны ребра, повреждены легкие. Вскоре у Яниса начался туберкулезный процесс. Сперва его лечили в «системе МВД», потом он попал в какой-то санаторий, где из разговоров с соседями выяснилось, что любовь к советскому строю у него не возросла. По новому доносу прямо из туберкулезного санатория Янис опять был осужден, теперь уже по статье 70 УК и попал в одну из наших зон.
Но оказалось, что и там он не хочет работать на советскую власть, и его отправили в Чистополь. У нас Яниса почти сразу же отправили в самый холодный уголовный карцер на 15 суток, к ним сразу же прибавили еще 15, потом еще 15, потом 10 (такое количество карцеров запрещено инструкциями даже для здорового человека). Этого оказалось достаточно: туберкулез вновь перешел в открытую форму. Именно тогда меня и перевели к нему в камеру. Изредка приходил врач и лицемерно давал какие-то лекарства. Главное было в другом: мы оба были на пониженной норме питания: в один день — только пайка хлеба, в другой — за день миска пустой баланды, пол миски каши и пять соленых килек. Для больного туберкулезом — верная, не очень поспешная смерть. И Янис, действительно, слабел неделя за неделей. Возражать было бессмысленно — его же лечили.
Месяца через два я опять объявил по какому-то бытовому поводу голодовку, и на этот раз меня бросили в карцер. Примерно в эти же дни голодовку объявил и Толя Марченко — но бесконечно более серьезную: он требовал освобождения всех политзаключенных из советских лагерей и тюрем. Уже было ясно, что начинаются какие-то игры, что нас собираются со всякими фокусами освобождать, и Толя хотел, чтобы это необходимое для властей освобождение было не дарованной из Лубянки и Кремля милостью, но результатом борьбы за освобождение самих политзэков. Он никому из нас не сказал об этом. Вероятно, не мог — его держали в камере только со стукачами, и его камера была самой изолированной в тюрьме: одна стена граничила с лестницей, другая — с кабинетом начальника отряда, но, может быть, не хотел. Толю оставили голодать в его камере, создавать камеру голодающих с ним не захотели.
Я же на этот раз валялся голодающий на полу карцера, подходил уже день двадцатый, искусственное питание вливать они явно не собирались, но меня тревожило не это: я вдруг ясно понял, что делаю, с моей точки зрения, непоправимую ошибку. Пусть непонятные и из тюрьмы — в высшей степени сомнительные, но перемены в стране явно начались. Нас явно хотят освобождать, и бесспорно, не сразу всех, и по-разному: кого-то сразу высылают за границу, кто-то останется в СССР. В этих неясных условиях многое можно сделать, особенно если застать эти перемены вначале. Между тем я сам делаю все, чтобы быть освобожденным последним, когда опять все «устаканится». Я запугиваю (и сейчас, и всем, что было до этого) тех, кто это решает, ясно показываю, что ничего кроме крупных неприятностей от меня ждать не приходится. И, конечно, уж лучше меня не освобождать вначале. О том, что могут убить, я тогда не думал: смерть Марка с убиваемым Янисом не связывал, да и помещение меня самого, без еды с пятью кильками через день, с человеком с тяжелой формой туберкулеза меня тоже не настораживало. Толя Марченко был еще жив.
Почти независимо от этих размышлений, кажется, даже до них мне вдруг стало интересно: сохранил ли я за все эти годы хоть какую-то способность писать, создать литературную форму, перенести мысли и ощущения на бумагу или уже окончательно потерял всякие профессиональные навыки. Даже в карцер полагалось по требованию давать лист бумаги и карандаш или стержень шариковой ручки — чтобы была возможность написать жалобу. Я получил первый лист, через день — второй, потом — третий. Каждый можно было исписать с двух сторон. И я начал писать то, что помнил: о последнем визите Достоевского к Тургеневу в связи с «исповедью Ставрогина» по забытым воспоминаниями поэта Минского. Впрочем, «Бесы» для меня всегда были для меня внутренне важной книгой. Теперь я думаю, что моя полная невозможность договориться с любыми советскими чинами была сродни легшей в основу «Бесов» евангельской легенде. Я их всех, не считая людьми, внутренне воспринимал вышедшими из больного тела России бесами, уже вселившимися в свиней, но еще не утонувшими в море.
Написал небольшую заметку, об имевшемся у меня редком «Молитвеннике для православных воинов» — свидетельстве того, что масоны и впрямь вели антивоенную пропаганду, о людях, которых знал: Ахматовой, Жегине, статью о реорганизации музеев. Через несколько месяцев, уже в Москве, показывая написанные в тюрьме заметки Игорю Виноградову и Анатолию Стреляному — членам редколлегии «Нового мира», я без удивления услышал: «Всё это очень любопытно по смыслу, но написано как жалоба в прокуратуру».
В рассказе об этой последней в моей жизни голодовке надо прибавить еще несколько общих слов о том, что такое голодовка или любая другая форма протеста заключенных в советской политической тюрьме или лагере. Игорь Голомшток, сравнивая в своих «Воспоминаниях старого пессимиста» поведение Даниэля и Синявского в лагере, но не имея собственного опыта, не понимает сути несовпадения в их поведении. Голомшток объясняет протестные действия и голодовки Даниэля в колонии тем, что он частично признал свою вину в последнем слове, а Синявский этого не сделал, и ему не надо было ничего доказывать в зоне. На самом деле, как раз тщательно выверенный, по-видимому согласованный с руководством КГБ, увод Синявским сути дела к его лишь «стилистическим расхождениям с советской властью» был результатом вторично подписанных Синявским соглашений о сотрудничестве с КГБ. Даниэль никаких бумаг не подписывал, вел себя искренне, спонтанно и ему точно не в чем было раскаиваться. Голомшток не понимает основного: поведение как раз Даниэля в колонии было обычным. Вся жизнь политической тюрьмы и колонии (в отличие от уголовных, где это иногда касалось лишь воров) состоит из непрекращающегося давления администрации с целью заставить политзэков отказаться от своих взглядов, своей деятельности, написать в КГБ или газету заявление о раскаянии. Для этого в советских тюрьмах заключенного лишают не только свободы, но всего, что составляет смысл или хотя бы мельчайшую опору в жизни. Политзаключенного советская тюрьма должна была раздавить, уничтожить любую способность к самостоятельности и противостоянию окружающему миру, и тогда с ним можно сделать все, что угодно. Иногда используется изнурительный многолетний голод, как во Владимирской тюрьме или запрет для верующих иметь Библию или Коран, запрет иметь хоть что-то свое, личное, получать книги из дому и так далее. Давление общее шло по нарастающей: запрет носить усы и бороду, перевод голодающих в карцер, разрешение иметь при себе не более пяти книг — остальное на складе и многое другое. Еще более жестоким оказывалось выборочное давление. Тяжело больному Некипелову отказывали в необходимом лечении, пока не покается. Особенно тоскующим по дому и родным не давали свиданий, не пропускали писем. Националистов всех народов всегда помещали в камеры с наиболее далекими от них людьми. А соседями в камерах еще делали стукачей, управляемых уголовников и реально опасных безумцев (все это в чистопольском коридоре для политзаключенных). В результате заключенные вынуждены постоянно защищать свои мельчайшие права, которые пытается отнять администрация, свою внутреннюю независимость, человеческое достоинство. Помогать и защищать друг друга. И в этих условиях Даниэль вел себя вполне обычно и вполне адекватно своему положению (я, быть может, слегка перебарщивал со своими бессчетными голодовками). Как раз Синявский, чего не понимает Голомшток, вел себя в колонии вполне неадекватно. Его самого, положим, в соответствии с соглашением с КГБ, никто не задевал, но он вынужден был демонстративно игнорировать нарушения, вплоть до преступлений, совершаемых администрацией по отношению к его соседям. Молча отстраняться от коллективных действий политзэков по защите своих общих прав. Что бы Синявский ни писал в своих книгах, его поведение вызывало всеобщее к нему неуважение со стороны всех соседей по лагерю и всех, кто знал об этом. К этому можно было бы относиться совершенно спокойно — Синявский был далеко не единственным в политлагерях, кого совершенно не интересовало положение его соседей, обстановка в стране. Синявский сполна воспользовался своим привилегированным положением — одна возможность постоянно отсылать жене сто страничные письма чего стоила. Из этих лагерных писем, лагерных размышлений хорошо образованного и талантливого человека сложились три очень любопытные книги: «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя». И вполне можно было бы сказать что эти книги вполне оправдывают некоторые моральные недостатки в его лагерном поведении, если бы не одно очень существенное «но». И сам Синявский (но не Даниэль) постоянно много лет повторял, что его публикации за границей, суд над ним, были началом новой фазы массового демократического движения в Советском Союзе. Московские диссиденты, не понявшие сути и источников рекламной акции вокруг Синявского (я об этом пишу в главе «Четыре маски Андрея Синявского» в книге «Полвека советской перестройки») тоже, почти единодушно его провозгласили первым и одним из самых крупных лидеров демократического движения, лидером длительной и неустанной, во многих случаях кровавой и жертвенной борьбы за права человека в тоталитарной стране.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: