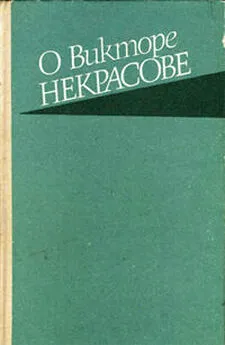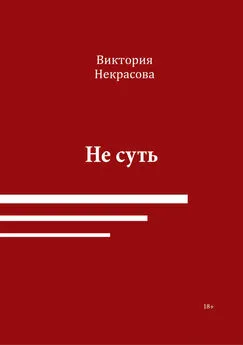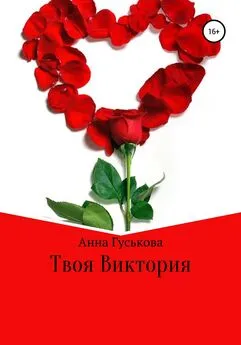Анна Берзер - О Викторе Некрасове
- Название:О Викторе Некрасове
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Украïнський письменник
- Год:1992
- Город:Киев
- ISBN:5-333-00666-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Берзер - О Викторе Некрасове краткое содержание
В 1974 г. В. Некрасов вынужден был покинуть Родину. Умер в Париже.
В книге представлены воспоминания о писателе его друзей, а также портретные зарисовки, принадлежащие перу самого В. Некрасова.
Рассчитана на широкий круг читателей.»
[издательство «Украïнський письменник», 1992 г.]
О Викторе Некрасове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тем временем в развитие хрущевских указаний в идеологических и литературных комендатурах всех республик и областей бросились изобретать собственных формалистов и абстракционистов. На Украине первыми были названы Лина Костенко, Иван Драч, Микола Винграновский, затем этот список обогащался. Началась настоящая вакханалия верноподданичества, моральной неразборчивости и эстетической ограниченности, чтобы не сказать — человеческой глупости. Но, в отличие от кампаний сталинских времен, звучали и голоса завуалированного, а то и прямого предостережения, как бы пытавшиеся образумить зарвавшихся современников. Например, Максим Рыльский в статье «Серйозна piч — мистецтво» («Лiтературна Україна» от 29 января 1963 года) недвусмысленно советовал: «Було б дуже прикро, коли б у нас почали робити з московської зycтpiчi та з вiдгукiв на неї в преci швидкi, „скоропалительные“, „органiзацiйнi“ висновки…» И даже безудержный апологет Хрущева Андрей Малышко в статье под характерным для этого рода выступлений названием «Ближче до людських сердець» («Лiтературна Україна» от 8 января 1963 года), клеймя «абстракционизм», в то же время фактически пытался вывести из-под удара Миколу Винграновского, Ивана Драча, Евгена Гуцало.
Видимо, и в ряде республик, и в самой Москве погром происходил не со стопроцентным успехом. Нужен был новый, более целенаправленный державный толчок. И он не замедлил последовать. 8 марта 1963 года Никита Сергеевич созвал писателей и деятелей искусств на вторую, широкомасштабную встречу с собой. Вместо того, чтобы использовать неизменно любезный сердцам наших вождей Международный женский день для знаков внимания к прекрасной половине человечества и для соответствующего смягчения сердца, он продолжил нахлобучку в еще более угрожающем тоне. На этот раз речь шла уже не столько о формалистах и абстракционистах, сколько о тех, кто «судит о действительности только по запахам отхожих мест, изображает людей в нарочито уродливом виде, рисует свои картины черными красками, которые только и способны вызвать у людей состояние уныния, скуки и безысходности». Они всячески мешают остальным писателям и деятелям искусств исполнять свой долг и воспевать действительность, а потому «надо дать отпор любителям наклеивать ярлык „лакировщика“ тем писателям и деятелям искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни». Само собой разумеется, ярлык заслужили как раз вот те смутьяны, и Никита Сергеевич тут же предложил новое клеймо собственного изобретения, пополнив им богатый фонд традиционных ярлыков: «А как же назвать тогда тех, кто выискивает в жизни только плохое, изображает всё в черных красках? Наверное, их следует назвать дёгтемазами».
Вот среди этих-то свежеразоблаченных шкодников-дёгтемазов и выделен был в особую строку Виктор Некрасов. На первый взгляд может показаться (и многим тогда казалось), что выбор пал на него совершенно случайно. Ну, попалась Никите Сергеевичу на глаза книга очерков В. Некрасова «По обе стороны океана» (или ему услужливо ее подсунули), ну, возмутил его непозволительно объективный тон повествования о подлежащем проклятию западном мире, вот и «выдал» он автору по число по первое — со свойственной ему импульсивностью… Увы, мне кажется, дело обстояло серьезнее. При всей своей импульсивности Хрущев был неизменно безошибочен в определении направления идеологических ударов и чрезвычайно чутко улавливал всё, что могло угрожать насаждавшемуся им благопорядку. И общегосударственная облава на «формалистов» и «абстракционистов» не была его глупой прихотью: пусть и сумбурная по форме, она была совершенно логичной по существу — пресекала попытки ускользнуть от политического надзора, изощряясь в «заумных» способах выражения; подтверждала незыблемое в тоталитарном обществе право государственного руководства предписывать характер и формы всех искусств. И возмущение «дёгтемазами» и всяческими носителями уныния и меланхолического настроения было отменно справедливо и своевременно — ввиду наметившегося отклонения от законоустановленной искусству социалистического реализма миссии: утверждать радостное приятие торжествующей действительности; давать идеологическое, моральное и эмоциональное «обеспечение» очередным предначертаниям; споспешествовать повышению производительности труда во всех отраслях производства (этот призыв к служителям муз лишь недавно перестал звучать). И соображенный по спецзаказу спецпортрет Виктора Некрасова в качестве одной из главных мишеней был выставлен не с кондачка.
Дело в том, что Виктор Некрасов как автор не только романа «В окопах Сталинграда», но и повестей «В родном городе», «Кира Георгиевна» представлял то течение в советской прозе, которое отказывалось работать на «возвышенных» стереотипах, отвергало «нас возвышающий обман», не уходило в романтическую риторику, конструирование «должного», а упорно воссоздавало «сущее», внимательно, понимающе и сочувственно вникало в реальную жизнь реального человека. Это антимифотворческое направление в советской литературе и искусстве объективно противостояло государственному мифотворчеству, отнюдь не собиравшемуся еще отказываться от тотального диктата во всех сферах общественной и духовной жизни. Именно потому Виктора Некрасова обвиняли в «дегероизации», «измельчении» советского человека и советской жизни (прежде всего в связи с повестями «В одном городе» и «Кира Георгиевна»; с романом «В окопах Сталинграда» приходилось быть осторожнее — ввиду его всенародного признания и огромного влияния на советскую «военную» прозу).
Характерен один из приемов дискредитации В. Некрасова, к которому прибегнул не стеснявшийся в средствах Хрущев. С присущим ему агрессивным простодушием он со своей высочайшей трибуны уничтожающе схохмил, что, дескать, речь не о том Некрасове, которого все знают, а о том Некрасове, которого никто не знает. Тут Никита Сергеевич явно слукавил. Имя Виктора Некрасова было как раз широко известно и любимо в читательской среде. Да и сам Хрущев был неплохо осведомлен о нем, видимо, специально интересовался. Позже имевшие отношение к Хрущеву люди рассказывали Виктору Платоновичу, что при упоминании его имени тот уточнял: «Это тот, что с усиками?» Значит, и фотографию ему показывали…
Именно из-за своего авторитета (и, разумеется, таланта) и представлял Виктор Некрасов «опасность» в глазах адептов политического иллюзионизма. Собственно, этот момент — предостережение от влияния Виктора Некрасова — тоже явственно сквозил в тирадах Хрущева: «Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова „По обе стороны океана“, напечатанных в журнале „Новый мир“. Оценивая фильм „Застава Ильича“, еще не вышедший на экран, он пишет: „Я безмерно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не вытянули за седеющие усы на экран старого рабочего, который всё понимает, на всё имеет четкий, ясный ответ. Если бы он появился со своими нравоучительными словами — картина погибла бы“. (Крики: „Позор!“) И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском высокомерном тоне».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: