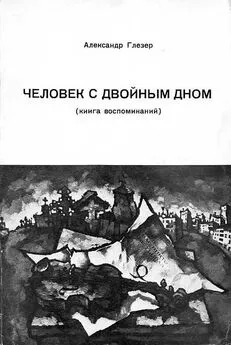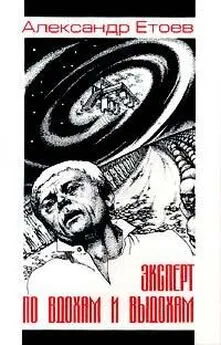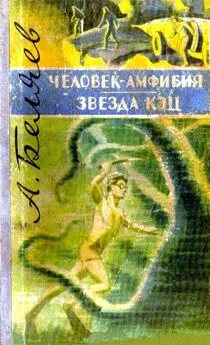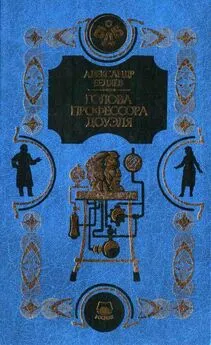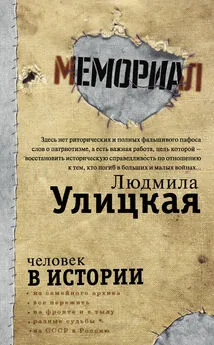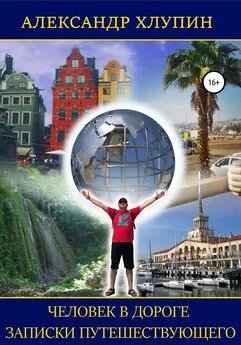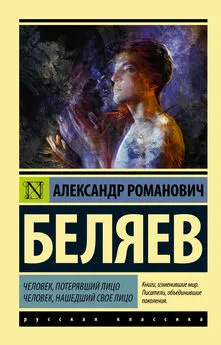Александр Глезер - Человек с двойным дном
- Название:Человек с двойным дном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Третья волна
- Год:1979
- Город:Франция
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Глезер - Человек с двойным дном краткое содержание
В первом выпуске своими воспоминаниями делится сам автор проекта — поэт, художественный критик, издатель Александр Глезер.
Человек с двойным дном - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Нравится? — с гордостью спросил хозяин. — Это Рабин.
Ах, вот он какой! Мы долго не могли оторваться от картины. Я спросил:
— Он, кажется, где-то за городом…
— Сейчас уже в Москве, на Преображенке.
Назавтра мы шли к Рабину, не подозревая, что встреча с ним будет переломной в нашей судьбе. И я, всю жизнь мечтавший обрести настоящего друга, не чаял столь неожиданно найти его. Найти, чтоб больше уже не потерять. Найти так, что даже государственная граница СССР, разделившая нас, не ослабит нашу дружбу, основанную на духовном родстве и общем деле, на доказанной жизнью готовности, рискуя собой, выручать друг друга в беде, каждому отражать удары, направленные в другого. Но это все будет потом, потом…
Человек, который открыл нам дверь, вовсе не походил на художника, каким он должен выглядеть по общему представлению, то есть с небрежно встрепанной шевелюрой, мягкими чертами лица, некоторой богемностью облика, Перед нами стоял сухощавый, сутуловатый, с абсолютно голым черепом и впалыми щеками мужчина в непритязательном, ширпотребовском пиджаке и таких же брюках, В его внешности было что-то аскетическое и он напоминал протестанского проповедника или ученого, а может просто бухгалтера, исправно надевающего по утрам черные нарукавники и педантично отщелкивающего костяшками счетов.
Но едва мы зашли в комнату, одновременно гостиную и мастерскую, посреди которой находился мольберт, едва по суровому лицу скользнула теплая улыбка, едва она заиграла под стеклами очков в глубине близоруких, голубых, рассеянно-внимательных глаз, как мы увидели художника. А руки? Это были руки мастерового и творца. Жестковатые, с крепкими, длинными, чуткими пальцами и сильным запястьем, они поражали скрытой мощью и неуловимой гармоничностью линий.
Безусловный лидер нонконформистов — живописцев, не входящих в официальный Союз Художников СССР, не исповедующих принципов искусства социалистического реализма, единственный, способный сплотить если не всех, то многих из них независимо от возраста, меры таланта и его направленности, Оскар Рабин родился в Москве в 1928 году. Двенадцати лет осиротел. Испытал в войну лишения, одиночество и голод. «Все время хотелось есть, — вспоминает он. — Больше ничего из детства не помню». И все-таки заброшенный, никому не нужный парнишка жил не только хлебом единым. Рано пристрастившись к рисованию, он почти не расстается с альбомом и карандашами, и его рвение вознаграждается: в 1942 году Оскар встречается с художником и поэтом Евгением Леонидовичем Кропивницким.
Этот носитель подлинной культуры и прирожденный педагог, никогда не навязывавший ученикам своих взглядов, дающий вольно развиваться их способностям, выпестовал группу одаренных живописцев и поэтов, которые впоследствии пополнили отряд творческой инакомыслящей интеллигенции Самого Евгения Леонидовича в 1963 году, когда ему было уже 70 лет, исключили из Союза художников за формализм. Через два года его решили восстановить. А гордец не оценил милости. На вопрос: «Кто ваши любимые художники?» ответил:
— Рублев, Суриков и Кандинский.
— Рублев и Суриков — это хорошо, но причем абстракционист Кандинский?
— Сурикова я для вас назвал, — рассердился старик. — А если честно, то люблю Рублева и Кандинского.
Конечно, его не восстановили. Он продолжал обитать под Москвою в ветхом домике с женой-художницей, существуя на мизерную пенсию школьного учителя рисования, но не отчаивался — по-прежнему радушно привечал гостей, радовался природе, писал стихи и картины. И быть может, именно Евгений Леонидович не только преподал Рабину первые серьезные уроки живописного мастерства, но и поделился с ним то силой духа, которую сохранил до глубокой старости.
Проучившись у Кропивницкого три года, Оскар уезжает на родину матери в Ригу и поступает в Рижскую академию художеств, профессора которой придерживались тогда довольно свободных для нашей страны взглядов на искусство. Ностальгия по Москве срывает его с места. Он уходит с четвертого курса и пытается продолжить образование в столичном художественном институте имени Сурикова, но не выдерживает здесь и полугода, ибо атмосфера подозрительности и паники (наступила пора очередного ниспровержения «западных авторитетов и их советских подголосков») раздражает, а выхолащивающие жизнь бездушные каноны наводят адскую скуку, которая может лишь отвратить от живописи.
Так Рабин вновь оказывается у своего первого учителя, в 1951 году женится на его дочери, художнице Валентине Кропивницкой, и поселяется на подмосковной станции Лианозово в длинном, мрачном, многонаселенном бараке. Они живут в небольшой, отапливающейся допотопной печкой комнате, живут впятером с дочкой Катей, сыном Сашей и недвижно лежавшей в постели парализованной Валиной бабушкой. В течение восьми лет Оскар служит то посыльным, то грузчиком, то десятником, руководящим погрузкой и разгрузкой железнодорожных вагонов. Последняя должность такая, что сутки работаешь, а двое — трое отдыхаешь. И кое-как отоспавшись, он стремится использовать каждую возможность, чтобы заниматься живописью, пишет пейзажи, этюды на плейере. Приходом к самостоятельному творчеству художник считает конец 1956 года, когда он внезапно перешел от строго реалистических построений к гораздо более свободным композициям. По словам Оскара это готовилось в нем давно, но толчок дали внешние обстоятельства Хрущевской эпохи оттепели.
Перед фестивальной выставкой 1957 года по Москве проходили молодежные отборочные композиции. На выставком одной из них Рабин принес несколько натурных вещей. Их равнодушно просмотрели и забраковали. В то же время, он увидел как приняли буквально на ура примитивные, как тогда ему показалось, неумело раскрашенные натюрморты Олега Целкова: кусок стены плоский, кусок стола плоский и два три плоских круга, изображающие фрукты. «Я, — рассказывает Оскар, — обиделся и подумал: раз вас нормальные, честные, со вкусом выполненные с натуры работы не устраивают, преподнесу вам что — нибудь экстравагантное». Дома он перелистал альбом с рисунками семилетней дочери и перенес их, орудуя мастихином, в увеличенном виде на холсты. На выставкоме они произвели сенсацию. Спорили до хрипоты, битый час обсуждая яркие, декоративные, очень условные полотна, на которых или прогуливались причудливые человечки, разряженные в красивые узорчатые одежды, или цвели в горшках и кадках перед домами экзотические невиданные цветы.
В общем, хотя и одобренные выставкомом картины почему-то не экспонировались, художник, уже однажды отойдя от чисто натурных произведений, не мог да и не желал к ним возвращаться. И вскоре трансформируя детское творчество, он нащупывает дорогу к самому себе. «Я ощутил, в какой степени присущая детскому рисунку деформация позволяет экспрессивно выражать чувства и настроения», — говорит он. В 1957 году один из его натюрмортов все же попадает на выставку Всемирного фестиваля молодежи и студентов и даже отмечается почетным дипломом. Но это было первое и последнее признание на Родине.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: