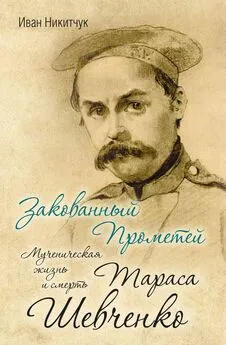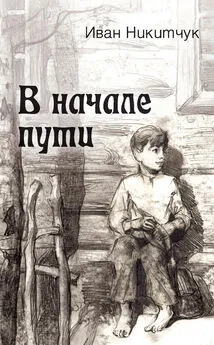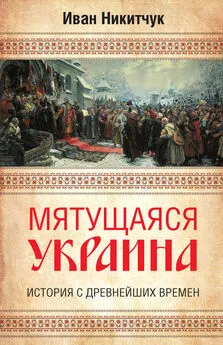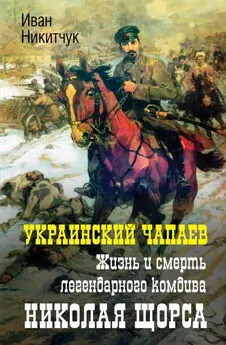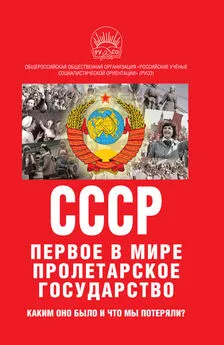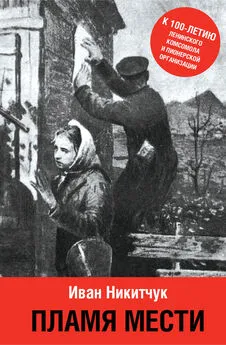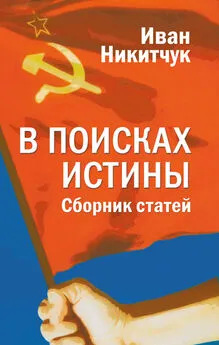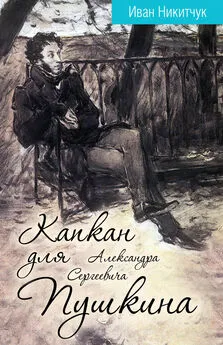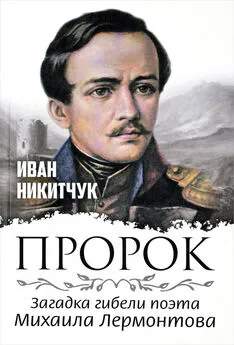Иван Никитчук - Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко
- Название:Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907149-04-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Никитчук - Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко краткое содержание
Родившись крепостным в нищенской семье и рано лишившись родителей, он ребенком оказался один среди чужих людей. Преодолевая все преграды, благодаря своему таланту и помощи друзей, ему удается вырваться из рабства на свободу и осуществить свою мечту — стать художником, окончив Петербургскую Академию художеств по классу гениального Карла Брюллова.
В это же время в нем просыпается гений поэта. С первых строк его поэзия зазвучала гневным протестом против угнетателей-крепостников, против царя, наполнилась болью за порабощенный народ. Царский режим не долго терпел свободное и гневное слово поэта, забрив его в солдаты на долгие 10 лет со строжайшим запретом писать и рисовать. Трудно было представить более изощренную пытку для такого человека как Шевченко — одаренного художника и гениального поэта. Но ничего не смогло сломить его могучий дух. Он остался верен своим убеждениям, любви к своему народу и своей земле. И народ ответил ему взаимностью.
Имя Тараса Шевченко остается святым для каждого человека, в котором жива совесть. Книга представляет интерес для широкого круга читателей.
Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако вскоре его взору предстал довольно грязный, хотя и бойкий, торговый город, застроенный громадным количеством самых жалких лачуг с их до невероятия бедным населением; а над всем этим неприглядным ансамблем высился своими белыми зубчатыми стенами знаменитый Астраханский кремль, стройный, великолепный пятиглавый собор XVII столетия.
Внимание Шевченко привлек старинный Успенский собор, построенный крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым. Осматривая сооружение с помощью соборного ключаря Гавриила Пальмова, Шевченко спросил:
— Кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора?
— Простой русский мужичок! — отвечал ключарь…
В Астрахани в то время не было даже гостиницы; Шевченко пришлось бы ночевать на улице, если бы он случайно не встретил прибывшего по служебным делам плац-адъютанта Новопетровского укрепления — прапорщика Льва Бурцева, своего хорошего приятеля, который тут же и пригласил поэта к себе на квартиру.
Вскоре выяснилось, что отплыть из Астрахани вверх по Волге не так-то просто: как раз в это время, в период Нижегородской ярмарки, все пароходы находились в Нижнем Новгороде, и раньше, чем через десять дней, ни один не должен был прийти в Астрахань. Опять предстояло томительное ожидание. По счастью, ссыльные поляки Степан Незабытовский и Томаш Зброжек знали Шевченко; а преподаватель истории и географии в астраханской гимназии Иван Петрович Клопотовский, окончивший Киевский университет, считал даже Шевченко своим «учителем», так как в 40-х годах слышал несколько лекций по теории живописи, прочитанных Тарасом.
Клопотовский и Зброжек сообщили о приезде Шевченко молодому рыбопромышленнику-миллионеру Сапожникову, знакомому Шевченко по Петербургу: будучи в то время «шалуном-школьником в детской курточке», Сапожников брал у Шевченко уроки живописи.
Сапожникову, разумеется, льстило возобновление старого знакомства с поэтом, пользовавшимся теперь громкой славой. Астраханский богач пригласил Шевченко плыть вместе с ним в Нижний на отдельном пароходе.
На пароходе «Князь Пожарский», принадлежавшем пароходной компании «Меркурий», не было других пассажиров, кроме самого Сапожникова с женой и родственниками. Капитаном парохода оказался тоже старый знакомый Шевченко, большой любитель литературы и человек передовых взглядов — Владимир Васильевич Кишкин. На пароходе была приличная библиотека, в частности, «все книги всех русских журналов» за текущий год. У Кишкина, кроме того, имелся «заветный портфель», в котором он хранил всевозможные запрещенные произведения, начиная от декабристской «Полярной звезды» за 1824 и 1825 годы с отрывками из поэм Рылеева «Войнаровский» и «Наливайко» и кончая самыми последними творениями «подпольной музы» вроде стихотворения Петра Лаврова «Русскому народу», популярной в то время «Кающейся России» Хомякова, политических стихов Бенедиктова и даже новинок лондонской типографии Герцена и Огарева.
Это соблазнило поэта, тем более что пассажирских пароходов в ближайшее время не предвиделось. Заранее купленный в пароходстве проездной билет Шевченко отдал в пользу неимущих пассажиров и согласился ехать на «Князе Пожарском».
Плавание по Волге продолжалось целый месяц и доставило поэту много удовольствия.
Буфетчиком на «Князе Пожарском» был вольноотпущенный крестьянин Алексей Панфилович Панов. Этот «крепостной Паганини», как называет его Шевченко, обладал выдающимися музыкальными дарованиями.
Слушая чудесную игру на скрипке «своего возлюбленного виртуоза», поэт думал о том, сколько таланта, сколько творческих сил таится в народе и ждет только возможности, чтобы проявиться, чтобы завоевать себе заслуженное право на существование!
Шевченко очарован музыкой, и он записывает в своем дневнике: «Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную, бледную красавицу-ночь и сонный, обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко успокоительная декорация!
И вся эта прелесть, вся эта зримая, немая гармония оглашается тихими, задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец возносит мою душу к творцу вечности — пленительными звуками своей лубочной Скрипицы… Он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно глубоко унылых песен.
Благодарю тебя, крепостной Паганини! Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный друг! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ! Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, наш праведный, неумолимый, неублажимый боже?..»
Находясь впервые на пароходе, приводящемся в движение мощью паровой машины, поэт под впечатлением ощущений возносится до предвиденья, записывая там же в своем дневнике: «Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем, с раскрытой огромной пастью, готовою проглотить помещиков-инквизиторов.
Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя.
Мое пророчество несомненно…»
31 августа «Князь Пожарский» остановился у саратовской пристани. Шевченко воспользовался тем, что пароход простоял здесь почти целые сутки, и с полудня до часу ночи провел у жившей в Саратове матери Костомарова — старушки Татьяны Петровны.
Когда Шевченко вошел к ней и произнес первые слова приветствия, Татьяна Петровна тотчас узнала его по голосу:
— Тарас Григорьевич…
Но, взглянув на гостя, старушка заколебалась: нет, она ошиблась, неужели этот лысый бородатый старик с печальными глазами — Шевченко?.. Они виделись десять лет тому назад, и тогда это был молодой человек с густыми каштановыми кудрями, горячим, живым взглядом выразительных, смеющихся глаз.
Шевченко убедил Татьяну Петровну, что это все-таки именно он, — и Костомарова обняла его и долго плакала, целуя Тараса в голову. «И боже мой, чего мы с ней не вспомнили, о чем мы с ней не переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном из Стокгольма от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года, и мы как дети зарыдали…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: