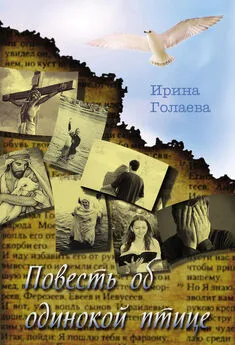Ирина Левченко - Повесть о военных годах
- Название:Повесть о военных годах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Левченко - Повесть о военных годах краткое содержание
Повесть о военных годах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Солдат из окопавшейся на берегу цепи, молча слушавший наши пререкания, очень вежливо вмешался в спор: если ему позволят, то он тоже скажет.
— Совсем неплохая мысль, если через речку. Вон там бревна тесаные в овражке лежат, на них не только человека — пушку переправишь.
Через полчаса несколько двухметровых бревен уже лежало на берегу. Откуда-то достали немного гвоздей, к бревнам прибили ремни, снятые с санитаров.
Санитары растянулись цепочкой по реке. Друг от друга нас отделяло расстояние, немногим большее, чем длина бревна.
У берега Дьяков укладывал на твердое ложе раненого, застегивая на нем ремни, затем стоящий в воде у берега санитар легонько толкал ее к следующему; тот принимал бревна с привязанным человеком и осторожно подталкивал дальше.
На середине реки, близко друг от друга, стояли самые сильные, высокие молодые музыканты; они передавали плот из рук в руки. Когда бревна с раненым достигали нашего отлогого берега, их вновь осторожно поворачивали по течению, притягивали, отстегивали ремни, и солдаты, приданные нам в помощь, снимали раненого. А в это время на наш берег шел второй импровизированный плот с драгоценным грузом — человеческой жизнью.
Сначала работа подвигалась медленно, потом мы наловчились, и наша переправа действовала безотказно.
В воде было очень холодно — вернее, холодно было вначале, потом ноги заныли такой свирепой болью, что казалось, в них вонзили тысячи длинных иголок. Закричать от боли? Стыд-то какой! Нет! Мне не больно, не холодно! Через некоторое время стало действительно не больно, только казалось, что ноги существуют как-то вне меня, совсем отдельно. Вспомнив, что в кармане может намокнуть комсомольский билет, достала его, взяла в зубы, затем, разорвав индивидуальный пакет, завернула в клеенчатую оболочку. Теперь хоть ныряй!
К вечеру вернулся Черемных. Он молча посмотрел на наш мост, устало чему-то улыбнулся и вдруг сердито набросился на майора, руководившего устройством траншей:
— Люди целый день в холодной воде мокнут, а вы тут…
Дальше он сам запнулся. Майор смотрел в упор. И, должно быть, многое прочел Черемных в его глазах: и что делал здесь этот майор, и тяжелый дневной бой на том берегу, и злую усталость. Черемных понизил голос.
Мост продолжал существовать, но началась уже общая эвакуация оставшихся на западном берегу Десны: дивизия занимала оборону по восточному берегу. Полк дневным боем дал возможность организованно отойти и окопаться другим частям дивизии. Нас сменили и на полуторке отправили в роту.
В санроте я отогрелась горячим чаем, а Дьяков, санитары и музыканты с удовольствием выпили предложенный им для растирания спирт. Меня всю растерла грубой тряпкой, смоченной в спирте, моя дорогая Дуся. Она так усердствовала, что, казалось, сдирала с меня кожу. Но когда я надела сухое белье и Дусин костюм, стало очень уютно.
Наступила ночь. Рота двинулась на новое место. Закутанная в шинель, я зарылась в сено в двуколке. Подошел Саша Буженко, попробовал, мягко ли, укрыл плащ-палаткой. У Саши была просто органическая потребность заботиться о людях. И заботу его чувствовали все: и старый доктор Приоров, которого Саша под разными предлогами отправлял отдыхать после напряженного дня работы, а сам становился на его место у операционного стола; и санитары, для которых Саша добывал сапоги вместо ботинок; и мы с Дусей, которых Саша всегда оберегал, как заботливый старший брат.
ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ
В большой сарай на краю деревни Ивановки, служивший для хранения сена, мы въехали чуть ли не всей санитарной ротой. Здесь и разместился наш медпункт. Оборона проходила в полутора-двух километрах, и нередко до нас долетали мины и снаряды. Работа под обстрелом стала такой привычной и обыденной, что обстрел не столько пугал, сколько раздражал. Когда однажды от близкого разрыва вздрогнул сарай и с потолка посыпалась солома, доктор Приоров, обрабатывавший раненого, сбросил мусор с рукава халата и возмущенно развел руками:
— Ну, это уж черт знает что — мешают работать!
С минуту стояла тишина, потом грянул дружный хохот. Доктор обиделся, махнул рукой, поправил пенсне, что-то пробормотал себе под нос и решительно взялся за пинцет. Один из бойцов шутливо выкрикнул:
— Дайте бумагу! Сейчас доктор протест писать будет.
Со всех сторон раздавались шутки. Молчавший доктор наконец обозлился:
— Что смеетесь? Ну что, что? Воз-му-ти-тель-но! Медпункты во все века охранялись международными законами, а теперь что? Безобразие! Протест?! Поможет тут протест! Надо чем-то потяжелее вдалбливать элементарные истины в головы фашистов, тяжелым да покрепче! — Доктор рубанул воздух пухлой рукой, как будто на самом деле бил кого-то по голове.
Смех оборвался. Должно быть, поняли, что происходит с доктором. Пожилой добрейший человек, напоминавший мирного амбулаторного врача (вероятно, до войны о нем говорили, что он «мухи не обидит»), сейчас готов был вступить в единоборство с врагом.
Примерно через час к нам привели раненого офицера-эсэсовца. Он три дня скрывался в лесу; ранен серьезно — в плечо навылет. Осколок перебил ключицу, прошел через сустав; рука болталась как плеть, неперевязанная рана загноилась. Приоров приказал мне обработать рану. Когда я удивленно пробормотала: «Перевязывать фашиста…» — доктор сердито прикрикнул:
— Но мы не фашисты! Он ранен, а русские не добивают раненых.
Подошла ближе к офицеру; он закрыл рану здоровой рукой. Я решительно отвела ее; эсэсовец перевел глаза на мои руки, на шприц с морфием. От злости стиснула зубы; «Неужели он думает, что я сейчас его чем-нибудь отравлю?»
— Это морфий, — сказала ему.
Поняв слово «морфий», он затих. Все протекало благополучно, пока я делала укол и стояла сбоку. Но как только я склонилась над раной, эсэсовец рванулся и сильным ударом сапога в живот отбросил меня далеко в сторону. От боли, от неожиданности, от обиды на минуту помутилось в голове. Меня подняли. Эсэсовец смотрел мне прямо в глаза и смеялся. Бешенство неудержимой волной захлестнуло сознание.
— Вы подлец, понимаете, подлец! Вам недоступно чувство простой благодарности! Вас надо давить беспощадно, но вы будете жить, мы не расстреливаем пленных, иначе я сама пристрелила бы вас! Ведь такие, как вы, никому не нужны!
Я захлебывалась словами и вертела перед его носом стиснутым кулаком, измазанным его же кровью. В глазах эсэсовца взметнулся страх, и этот страх отрезвил меня. Я замолчала, махнула рукой и решительно отошла. Вот он, враг, с которым мы воюем! «Сверхчеловек», который, не задумываясь, убьет ребенка, надругается над женщиной, над стариком!
Неудержимое желание уничтожать фашистов захватило меня целиком. Да и меня ли одну? Не было в те дни юноши или девушки на фронте, будь то радист в штабе или сестра в госпитале, которых не волновали бы такие же чувства. Это были самые тяжелые дни войны, когда сердца наши истекали кровью при виде горящих сел и городов, при виде измученных беженцев, покидавших свои пепелища, и солдат, умиравших на наших руках. И не просто желанием, а жизненной потребностью стало самому сражаться с врагом, уничтожать его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
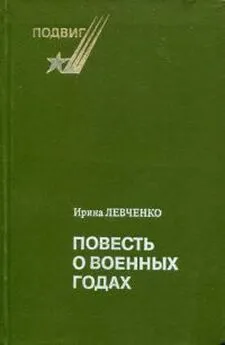

![Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 1](/books/451604/irina-knorring-povest-iz-sobstvennoy-zhizni-dnevnik-v-2-h-tomah-tom-1.webp)