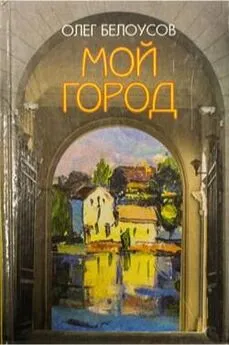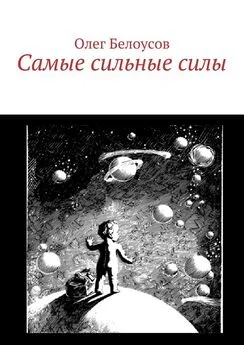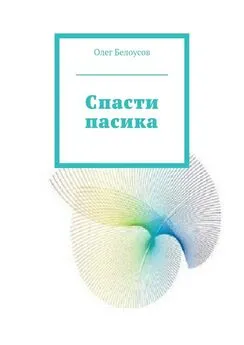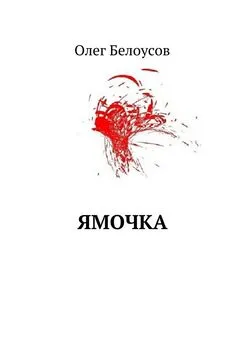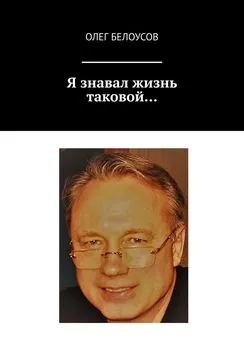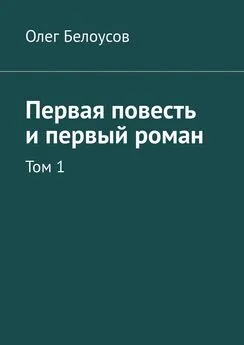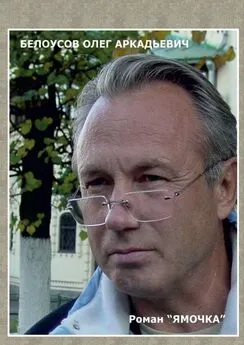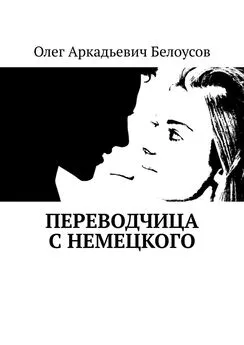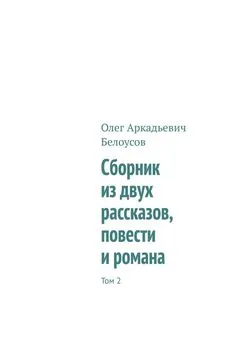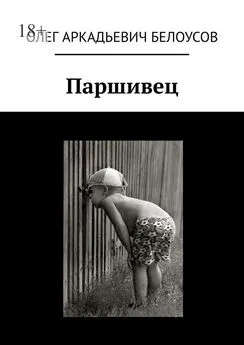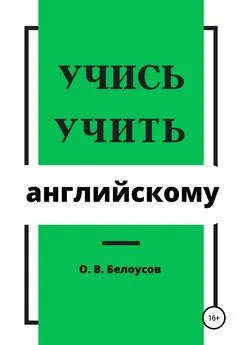Олег Белоусов - Это мой город
- Название:Это мой город
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Беларусь
- Год:2005
- Город:Минск
- ISBN:985-01-0525-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Белоусов - Это мой город краткое содержание
Эти главы были размещены на сайте
, который, к сожалению, прекратил свое существование после смерти автора. В бумажную книгу помимо публикуемой здесь мемуарной части вошли также воспоминания Олега Белоусова о его друзьях и коллегах.
Это мой город - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наши дети, матюгаются на чем свет стоит. Но в детские игры не играют. Может, забыли, может, никто не передал им эстафету, может другие игрушки появились, а, скорее всего, дворы наши так спроектированы, что нет в них раздолья, нет места для беготни, для подвижных детских игр, которые так необходимы для полноценного детского развития. Убогие жестяные горки, доломанные спортплощадки, межквартальные автомобильные проезды, скученность домов не стимулируют детских игр. Может, они перенесены куда-то в другое место? В компьютерные игротеки, в парки? Вряд ли!.. Дети должны играть вместе. Желание играть из них вытравить невозможно. Иногда мне приходит в голову страшная мысль – что-то изменилось в нас, в окружающем нас мире и дети мгновенно на это среагировали.
Боже! Не допусти нас до того, чтобы из городов наших, из дворов -исчезли детские голоса и детские игры, не допусти нас до опустошенности души, с которой встретился в Брагине, Чашниках, Хойниках. Пока в городах есть дети, пока они орут и играют – жизнь не закончилась!
ГЛАВА 25
Вопроса, куда поступать учиться после школы передо мной не стояло в силу бесконечной тупости в точных науках. Математика, физика, химия – были абсолютно темным лесом, по которому я плутал до восьмого класса, пока не махнул на все рукой и оставшиеся три года выкручивался, как мог, списывая, пропуская контрольные, выклянчивая тройки, которые мне ставили, понимая, что ничего со мной поделать нельзя – не приспособлен. Зато – литература, история, биология, короче, все то, что входит в перечень «наук вызволеных» – был мой конек.
Поэтому на семейном совете было решено – факультет журналистики. Даже при несомненной подготовленности, помню, нанимались репетиторы по грамматике и немецкому. Однако, как-то осилили. Поступил я на первый курс вечернего отделения. Почему вечернего, требует объяснения, поскольку, это было первым столкновением с общегосударственной дуростью.
Уж не знаю, по каким причинам было принято решение, что преимущественное право на учебу предоставлялось тем, кто имел производственный двухлетний стаж, может быть рабочих рук не хватало, может солдат, но мальчикам и девочкам, закончившим среднюю школу, было велено этот стаж нарабатывать. Девочкам – полбеды, им в армию не идти, для многих моих сверстников это постановление было сродни катастрофе. Прерывался процесс учения, вырванные на три армейских года из этого процесса, мальчики забывали все, чему их учили в школе и, тогда, светлые головы из министерства просвещения вынуждены были предоставлять им, отслужившим в армии, следующую льготу при поступлении в ВУЗ. Идеологическое обеспечение этой акции, повторюсь, было абсолютно дурацким, поскольку аргументы типа: «в высшие школы должны идти люди, осознавшие свой выбор», либо «детки высокопоставленных родителей, должны хлебнуть настоящей жизни, прежде чем занять место в аудитории», или «только поварившись в настоящей трудовой среде, можно стать настоящим гражданином» – ни в какие ворота не лезли. А судеб поломали много. Во-первых, кто не определился после школы, тому два года подсобником на производстве, никак определиться не помогали. Во-вторых, детки высокопоставленных родителей, как обходили все и всяческие запреты, так и на этот чихали с высокой колокольни. В-третьих, коли, не было в человеке воспитано гражданское чувство в семье и школе, то за два года прозябания в колхозной или производственной бригаде, среди людей мало культурных и мало образованных оно никак укрепиться не могло, скорее можно было растерять зачатки того, что было.
Думаю, что попросту империи нужно было больше пушечного мяса, поэтому и придумали это установление, обернув его, как всегда, в насквозь фальшивую идеологическую обертку.
Тем не менее, следовало искать какой-то выход. Выход был найден, благодаря фиктивному устройству на работу в Минский художественный комбинат и поступлению, как человеку имеющему работу, на вечернее отделение. Перевелся я с вечернего на стационар через полгода, спасибо дяде Володе Ивашину мужу маминой подруги и однокашницы по медицинскому институту, в то время занимавшему должность декана заочного факультета БГУ. Все-таки люди умные встречались в те времена и среди начальства, особенно начальства имеющего отношение к образованию, понимали, что, отказывая одаренным и подготовленным юношам в непрерывном процессе образования «школа-университет», страна наносит себе непоправимый урон, обедняя свой собственный в будущем золотой фонд, фонд интеллектуальной элиты.
Группа моя, состоявшая в основном из сельской молодежи, отслужившей в армии, меня, пацана, встретила не то чтобы в штыки, но как-то очень недоверчиво. У них за плечами был примерно одинаковый багаж: сельская школа, армия, льгота при поступлении в Вуз. Они понимали друг друга, не в новинку для них был и интернатовский быт, сродни армейскому, казарменному, с пластами сала за окошком, картошкой привезенной из дома, моченой капустой. Эти три продукта – сало, картошка и капуста составляли основной студенческий рацион тех лет. Жареной на сале картошкой и кислой капустой пахло на всех этажах студенческого общежития. Этот запах казался мне исполненным романтики. Равно, как и студенческие застолья после получения «степухи». Тогда два, а то и три дня студенческая братия «кутила», пропивая половину, а то и более нищего казенного вспомоществования. У меня хватило ума на собрании профсоюзной студенческой группы, от этого вспомоществования отказаться, что основной массой однокурсников было воспринято благожелательно, но все-таки с некоторой долей высокомерия – я еще раз, пусть из самых лучших побуждений, подчеркнул, что я не такой как все. Не так, как все (в смысле, перевелся с вечернего «по-блату») поступил. И живу не так, как все, коль отказываюсь о стипендии. Значит из буржуев. Труднее было с иным – учился я, как ни крути, получше, чем все остальные. Лучше меня, не в смысле оценок, а в смысле живости восприятия, готовности понимать и усваивать академический материал, готовности сутками не вылезать из библиотеки, в нашей университетской группе были, пожалуй, трое: Сеня Букчин – мальчик феноменально образованный, который переписывался с Корнеем Чуковским, великолепно знал поэзию русского серебряного века, профессионально сотрудничавший на радио и в газетах; Витя Леденев, который успел до БГУ поучиться в московских Вузах и поэтому, был осведомленнее нас, провинциалов; да еще, пожалуй, Эдик Ясный, большая умница, человек странной и не до конца, даже сегодня, понятной мне судьбы. Был он, вроде бы, сыном кого-то из известных, но репрессированных русских поэтов, детство провел вместе с матерью в фашистских концлагеря, на первом курсе еще щеголявший в морских штанах и форменке. Впрочем, если я чего и перепутал, по отдаленности времени, пускай друзья меня простят, так я их воспринимал тогда, такие воспоминания о них сохранил на всю жизнь и, честно говоря, не хочу отказываться от этих воспоминаний, даже если они в чем-то и не верны. Мифы иногда достоверней и занятней истины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: