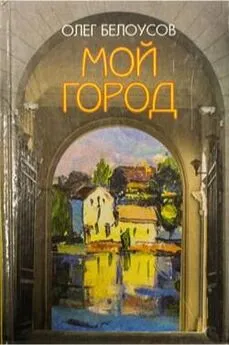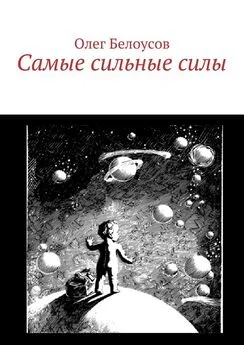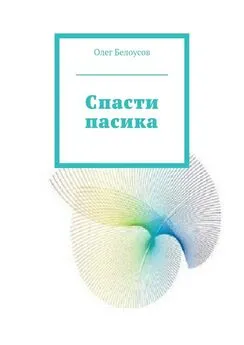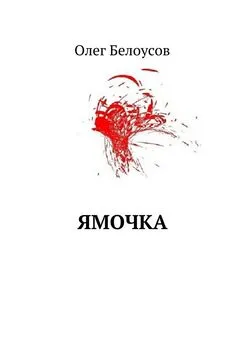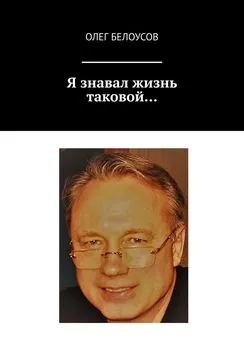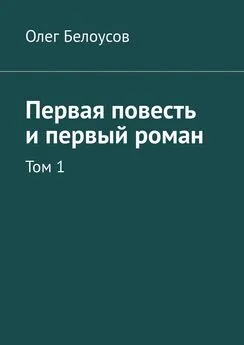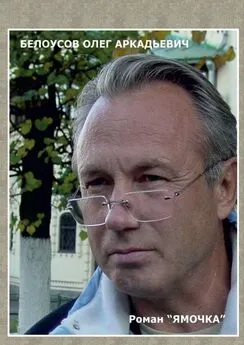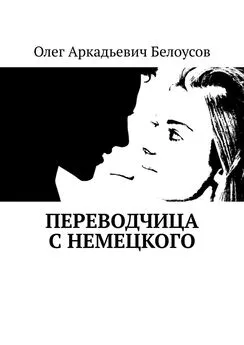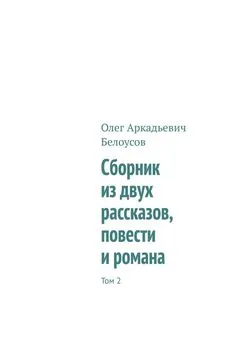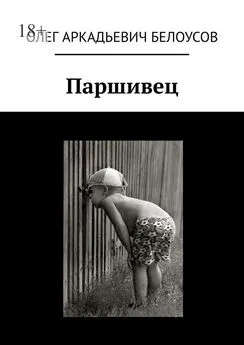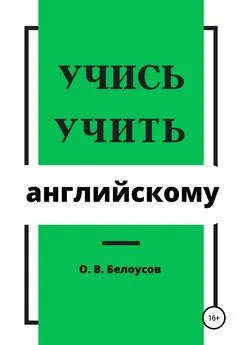Олег Белоусов - Это мой город
- Название:Это мой город
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Беларусь
- Год:2005
- Город:Минск
- ISBN:985-01-0525-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Белоусов - Это мой город краткое содержание
Эти главы были размещены на сайте
, который, к сожалению, прекратил свое существование после смерти автора. В бумажную книгу помимо публикуемой здесь мемуарной части вошли также воспоминания Олега Белоусова о его друзьях и коллегах.
Это мой город - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как все студенты в те времена мы ездили на картошку, жили по хатам, пили самогонку, ходили на танцы в сельский клуб, где иногда, с переменным успехом, то нам «чистили физии» местные хлопцы, то мы набирали очки, оказывая им недюжинное сопротивление. В этих нечастых деревенских драках не было злобы, чувства мести – скоре, была лихость и озорство.
Как все студенты озоровали на лекциях и между ними. Иногда сбегали пить пиво (в то время продавалось в Минске бочковое чешское «Старопрамен») и непременно занимали очередь любимым преподавателям Мицкевичу и Сыроквашу, которые, случалось, за кружкой пива и читали нам лекции, один по русской литературе, другой – по белорусской. Следует заметить, что группа наша была в основном русскоязычной, дискуссий о родом языке, как правило, у нас не было. К белорусскому относились спокойно-иронично. Не подозревая, что на отделении белорусского языка, на историческом факультете в это время происходили глубокие студенческие брожения, выливавшиеся в трагические акции протеста, с исключениями из университета, и иными репрессиями. Бог боронил, удавалось избегать акций публичного осуждения. На них, где пламенные комсомольцы призывали изгнать, выкорчевать, исключить поросль «националистической молодежи» удавалось не присутствовать, не взирая не разнарядки и требования придти и выступить с осуждением. Видимо, ощущение, что все эти массовые сборища, истеричные осуждения, есть нечто непотребное в глубине души присутствовали, но был бы неискренним, если бы вдруг «вспомнил», что сам протестовал, сам пострадал и т. д. Мне хватило одного столкновения с неправедной толпой комсомольских осуждателей, когда руководитель литературного объединения при «Знамени Юности» поэт (поэт!) Петр Волкодаев, который по роду службы должен был, видимо, докладывать, куда следует об умонастроениях молодежи, доложил о моих первых литературных опытах и меня, шестнадцатилетнего пацана, взяли в «оборот», причем такой силы, что чуть не вылетел из комсомола и из Университета. Стишок то был простенький, до сих пор помню:
Руки юношей не для того, чтобы гладить плечи любимых.
Руки юношей – созданы для рукоятей;
Губы – для предсмертного хрипа.
Глаза –
Для того чтобы в прорезь прицельной планки
Ловить, бегущие силуэты.
А, волосы – вовсе не нужны юношам,
Они встают дыбом от ужаса,
Поэтому юношей стригут наголо…
Нужно отдать должное моим однокурсникам, может быть в силу своего жизненного опыта, а может, просто, не принимая меня всерьез, они к этой истории со стихами отнеслись прохладно и «додавливать» не стали. Потом она затихла сама собой. Думаю, более того уверен, что опять должен сказать доброе слово Владимиру Григорьевичу Ивашину, а, может, Григорию Васильевичу Булацкому, нашему декану, а может…
Впрочем, что гадать, у нас на журналистике, были замечательные преподаватели и, если, уж, не давили их «по черному» различные партайгеноссе, старались своих мальчишек не выдавать. Помню, на защите диплома, в клубе журналистов, председатель Госкомиссии, тогдашний редактор «Звязды» и член бюро ЦК Пыжков, после моего выступления бился в истерике и требовал, либо поставить двойку – либо он выходит из членов комиссии. Сам не слыхал, считал ниже достоинства, но девчонки наши подслушивали у двери и рассказывали потом, что весь женский персонал кафедры встал против сановного дуролома горой, даже милейший, тишайший Марк Соломонович Зерницкий, который в бытность свою редактором районки, не ложился спать не подготовив, на всякий случай, «сидора» с теплыми вещами и тот рискнул возмутиться: «Мы тут, столько пятерок поставили за всякое г-но… А, это же серьезная работа!..».
Короче отстояли, поставили мне четыре балла. И на том – огромное спасибо!
Но не всем, с кем мы вошли на первом курсе в аудиторию, довелось вместе добраться до выпускного вечера. Погиб Эдик Аединов. Погиб на втором курсе, совершенно нелепо. Выпал из окна четвертого этажа. Это была первая потеря. Потеря, увы, невосполнимая. Были и иные потери, связанные с бездушностью и дурью нашего государства, незабвенного СССР. По-моему с третьего курса забрали в армию Витю Захарчука и Сеню Букчина. Какой военной необходимостью был вызван этот идиотский призыв студентов, которым осталось учиться всего ничего до сих пор не пойму. Кому стало «легко и весело» стало оттого, что Витька пропустил два года и вернулся в университет, когда мы уже выпускались? Кто и какую справедливость ублажил оттого, что Сеня, уже на третьем курсе готовый написать и защитить кандидатскую диссертацию, должен был ковырять лопатой радиоактивный грунт в Красноярске-25?
Какая к черту справедливость! Ею тут и не пахло! Даже в годы военного лихолетья студентов не гребли подчистую в войско. Вспомните, как возмущалась российская общественность, когда за провинность перед Государем императором, сдавали студентов в солдаты. Так, то – за провинность, и не всех подряд, а выборочно… Нет! СССР должен был погибнуть, должен был развалиться, в том числе и оттого, что не берег, не лелеял «собственные мозги» – студентов. Как говорится в пословице – если Господь хочет наказать человека, первым делом лишает его разума. Не то ли самое происходит и с государством не уважающим, не ценящим своих студентов, свое будущее.
Как было немыслимо обидно нашим ребятам, впрочем, как и всем остальным разделившим их судьбу, покидать студенческую аудиторию и отправляться в армейскую казарму, понял сам, потом, когда, получив диплом, пошел по их стопам «отдавать долг родине». Но, я то был уже с дипломом, он грел мне сердце. Я то уходил на год, а не на два, как они. Я мог расценивать свою армейскую эпопею, как журналистскую командировку. Пусть, длительную, но с ясным финалом. И то, насколько это было тяжело. Не физически, хотя и физически тоже,– нравственно. Одно я вынес, осознав то, что сотворила страна с моими однокурсниками, что сотворила со мной – армия должна быть профессиональной. В армии должны служить люди, которые хотят там служить (есть такие!), тогда не будет дедовщины, тогда пореже будут сообщать матерям: «Погиб при исполнении служебного долга», тогда и сама эта формула будет носить более нравственную окраску – он сам хотел, сам выбрал. Тогда безответственные господа в погонах будут чувствовать свою ответственность перед законом: не досмотрели, не обеспечили, проявили халатность, превысили полномочия, не уберегли «ценное имущество» государства. До сих пор в армии этого нет. Никто не несет ответственности за солдата. Кто он такой? Почти «зек» по своим правам, по своему быту. Так происходит во всех армиях, сформированных «по призыву». Государство, смею думать, совершило неслыханное головотяпство, забривая студентов в армию. Прежде всего – разрушило принцип ее закрытости, кастовости. Студенты, придя в армию во время учебы и, некоторые, оставшиеся в ней после окончания вуза, подвергли сомнениям многие постулаты, которыми армия жила дотоле.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: