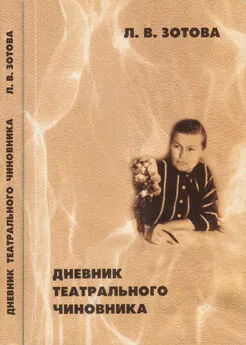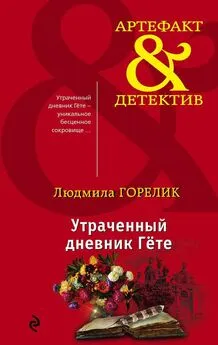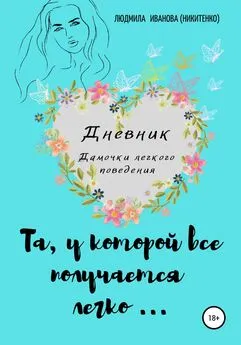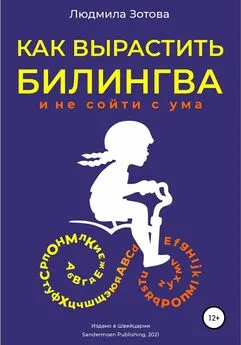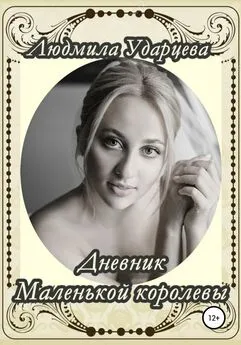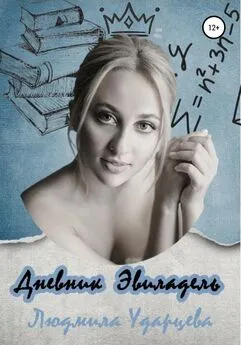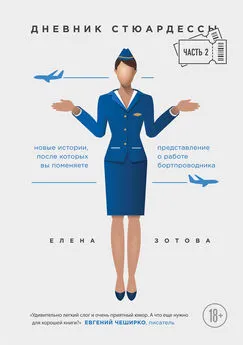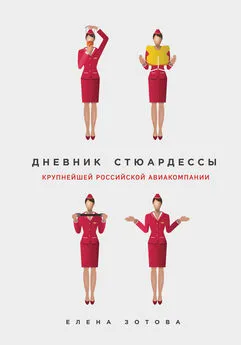Людмила Зотова - Дневник театрального чиновника (1966—1970)
- Название:Дневник театрального чиновника (1966—1970)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПИК ВИНИТИ
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-87334-050-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Зотова - Дневник театрального чиновника (1966—1970) краткое содержание
Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года.
В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве.
И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам.
Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным.
Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.
Дневник театрального чиновника (1966—1970) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вчера в связи с праздником у нас в Управлении был, так сказать, вечер. Любопытно, что Владыкину позвонили уже в 4 часа, в общем-то символически, почти уверенные, что он не приедет. Но он явился, и очень скоро, и был, кажется, доволен, что его пригласили, а то его соратников — замов Министра Кухарского и Попова — пригласило музыкальное Управление, а его бы нет. Был весь такой интеллигентный, благостный. Тарасов, открывая «празднование», произнес «речь», где утверждал, что мы можем и должны гордиться каждым днем, прожитым страной за эти 50 лет. При этом он недвусмысленно нажимал на слово «каждый» и выразительно смотрел на «левые силы» [11] В те годы понятия «левые» и «правые» силы были противоположны сегодняшним понятиям.
, сидящие напротив в лице Емельянова, Синянской и Зотовой. В остальном все было «мило», как говорится. Маша (Медведева, зам. главного редактора Репертуарной коллегии) произнесла трогательный тост. Вот вчера она вышла из театра, где видела старую Москву («Дни нашей жизни»), и увидела новую Москву, и как все прекрасно изменилось, и вот, мол, за будущее, за Леночку (наша машинистка) и Юру (курьер) она и предлагает выпить. Браво! Браво! А я, слушая ее, думала, что в далеком 1949 году на собрании в ГИТИСе Маша вот так же «проникновенно» говорила о том, как она, «простая русская девушка из Чухлинки» (так она себя именовала) ненавидит «безродных космополитов», а среди космополитов числились Н. М. Тарабукин, С. С. Мокульский, А. К. Дживелегов, Г. Н. Бояджиев, Б. В. Алперс… Эту речь Маши в ГИТИСе передавали от поколения к поколению студентов.
Ну что за эти дни видела? Первого ноября — «Шторм» в театре Моссовета, так сказать, в современном прочтении. Это не достоверное воспроизведение эпохи, а как бы эскизы, которые разыгрывают актеры, возбуждая память и фантазию зрителя. Вся труппа на сцене, Ю. Завадский обращается в зал со словом, а потом из массы выходят актеры и играют сцены из пьесы, масса же почти постоянно присутствует на сцене. Много выходов в зал, вовлечение публики. Текст пьесы сильно сокращен, и эти 2,5 часа (без антракта) сидеть довольно легко и даже интересно, а моментами и волнительно. Ну что ж, пожалуй, вот так надо играть такие пьесы, как «Шторм», «Любовь Яровая» и им подобные. Это все же не советская классика. А по-настоящему от этой эпохи, может, и останется одна «Оптимистическая трагедия». Так что Завадский не стар еще душой. «Нашествие» в ЦТСА — все очень средне, но финал неожиданно хорош и освещает все смыслом, которого как бы недоставало, — трагический плач матери, сестры, смятение всех и никакого ликования. Да, победа, но какой ценой? И в этом — современное прочтение. Ставил Сапгир, это его первая самостоятельная работа, а то он все был режиссером при другом постановщике.
Ну вот и праздник — 8 часов утра 7 ноября. Я сегодня дежурю в Министерстве вместе с Кудрявцевым. Есть время записать, что было вчера. Утром в 9 часов 30 минут была в театре Станиславского на спектакле «Однажды в двадцатом». Ну что? Смешно. Есть удачные актерские работы — Леонов, Бочкарев, Быкова. Как я выразилась в разговоре с Эрманом, это словесная кулебяка, вкусная и жирная. Так еще революцию не показывали. Что ж, к юбилею и эта краска, камерная, не претендующая на глубокую философию. Львов — Анохин сам выбросил интермедии, которые происходили на небе между Богом и Чертом и придавали всему расширительный характер, философскую глубину. Очень много местечкового юмора, играется жанр Мальковским в роли еврея при атамане. Собрались на 5 минут, разрешили играть вечером 6 и 10 вместо «Материнского поля», которое они не успели возобновить.
Из Театра Станиславского поехали в «Современник» на «Большевиков». Лит официально так и не разрешил, но произошло то, что «потрясло» театральную общественность. 5 ноября Ефремов «бросился к ногам Фурцевой», которая позвонила Романову — начальнику Главлита, тот ей сказал (это мне рассказал в антракте Кошелев — помощник Владыкина), что как Главлит, следящий за сохранением государственной тайны, он претензий не имеет, но вот политически у них сомнение. И тут Фурцева сказала, что берет эту ответственность на себя. Говорят, Ефремов просто разрыдался. И вот мы смотрим спектакль. Очень страстный. Вот какие были те, кто делал революцию, — умные, талантливые, знающие, преданные, самоотверженные, бескорыстные, единые, чистые. Что же мы сделали с детищем их рук и умов, с делом, за которое они отдали свои прекрасные жизни? Кто же мы такие сами? Да, этот спектакль на 10 голов выше и «Декабристов» и «Народовольцев», понятно, что ради этого спектакля и затевалась вся трилогия. После просмотра — обсуждение.
Первым высказался Голдобин: чистый, волнующий спектакль.
Потом Симуков присоединился к предыдущему оратору.
Ануров от имени горкома партии тоже высказал положительную оценку.
В. Радомысленский (ректор Школы — студии МХАТа) прежде всего просил передать Фурцевой его восхищение ( реплика Ефремова: «У нас есть свои Луначарские» , кто-то продолжил: «Неизвестно еще, как бы тут поступил Луначарский» ). Потом В. Радомысленский хвалил актерские работы: по его мнению, Станиславский мечтал вот о таком искусстве актера.
Закшевер: «Есть ли ассоциативность в сцене о терроре? Да, есть, но этого не надо бояться, это сделано на таком уровне, художественном и гражданском, что этого бояться нечего».
Тарасов: «С самого начала мы были за эту пьесу и вот рады, что таков результат».
Цирнюк: «Мне бы хотелось только сказать, что сам факт, что мы видим сегодня этот спектакль, говорит о мужестве театра, который создал и выпустил его в таких сложных, искусственно созданных условиях».
Л. Зорин: «До каких пор мы будем подсудными, мы ведь тоже коммунисты и в партии не один десяток лет. Почему за то, что запрещают вот такое, нужное, не несут ответственности? За разрушение у нас не отвечают, а вот те, кто помогают строить, рискуют. Вот что мы с вами сейчас делаем? Мы делаем „антигосударственное“ дело — „лита“-то нет. Так как же? Почему безнаказанно это все проходит? Почему можно губить людей? Для меня загадка, как здесь среди нас находится Ефремов, ведь вчера он лежал с сердечным приступом. А ведь Ефремовых у нас не так много».
Владыкин: «Вот говорят, что мы мешаем своими замечаниями, — нет, мы помогаем, вот я читал пьесу раз 5, давал письменное заключение, замечания, многие поправки улучшили пьесу». И еще долго говорил все на эту тему.
Родионов на ту же тему, что и Владыкин: «Вот видят, что портят, а что помогают — не видят. Выступление Зорина однобокое. ( Реплика Зорина , что он ставил вопрос локально, что о других организациях он не говорил.) А я вот так ставлю вопрос». Потом Родионов стал делать отдельные замечания, что вот, мол, читают много телеграмм частного порядка, а разве это главное? Да, они имеют частное значение для отдельных людей, а для страны это имело ли такое значение? Наверное, из 1000 телеграмм все же 900 были о революции, о хлебе и т. д. и лишь 100 частных, а здесь наоборот, что рассуждение о терроре затянуто, что круг упоминаемых людей в телеграммах и телефонных разговорах хотелось бы расширить. ( Реплика Шатрова: «К сожалению, три четверти близких Ленину людей до сих пор не реабилитированы».) Родионов заявил, что название спектакля должно быть только «30 августа». Ефремов сразу возразил, а потом разгорелась страстная полемика, вернее, защита названия «Большевики». Родионов говорил, что, вот, мол, там упоминаются и Бухарин, и Троцкий, так кого считать большевиками — тех, кто действует на сцене, или всех, и заявил: «Как начальник Управления культуры, я разрешаю только название „30 августа“». ( Реплика Владыкина: «И я настаиваю»). Ефремов: «Ну, тогда я выйду на сцену перед спектаклем и скажу, что нас заставили назвать спектакль „30 августа“, а на самом деле это называется „Большевики“».
Интервал:
Закладка: