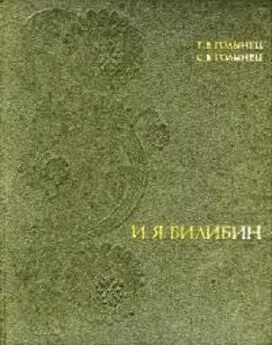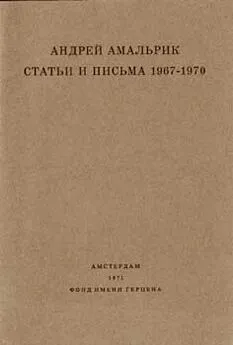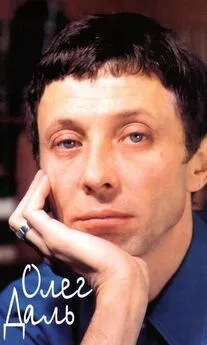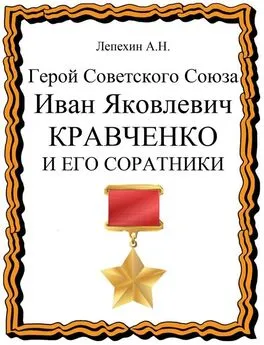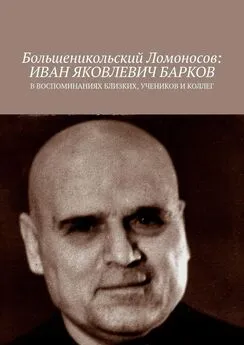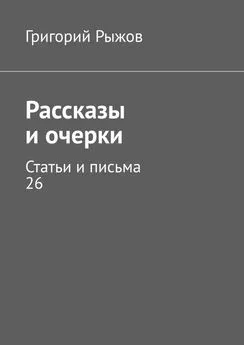С Голынец - Иван Яковлевич Билибин (Статьи • Письма • Воспоминания о художнике)
- Название:Иван Яковлевич Билибин (Статьи • Письма • Воспоминания о художнике)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Художник РСФСР»
- Год:1970
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С Голынец - Иван Яковлевич Билибин (Статьи • Письма • Воспоминания о художнике) краткое содержание
Талант Билибина получил объективную оценку еще в 1900—1910-х годах в трудах С. К. Маковского и Н. Э. Радлова. Статьи о художнике публиковались в русских дореволюционных, советских и зарубежных изданиях. В 1966 году вышла небольшая книга И. Н. Липович — первая монография, специально посвященная Билибину.
Иван Яковлевич Билибин (Статьи • Письма • Воспоминания о художнике) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После уплаты в больницу, врачу, ночным сиделкам, за добавочные обеды, которые нам носили в больницу папины заботливые друзья, деньги, оставленные отцом, исчерпались. Иван Яковлевич, с болью отрывая от сердца, продавал этюды спекулянтам. Деньги его текли как вода, но у нас было все. Тогда мы в этом не отдавали себе отчета, подавленные чувством катастрофы и беспокойством за судьбы своих друзей и близких. Иван Яковлевич же соизмерял свои поступки с масштабом всего происходящего и с масштабом своих чувств. Много позднее я прочла его письмо к отцу, в котором он писал, что теперь не такие дни, чтобы считать, что "твое", а что "мое", и что он не хочет подводить с ним счетов, как не стал бы он это делать со своей матерью или братом. Иван Яковлевич был с нами по-отцовски трогательно заботлив, и, кажется, весь беженский Новороссийск знал о судьбе семьи Чириковых, и о том, что Билибин остался заботиться о нас, а также и о том, что за наши стриженые головы он называет нас "кокосовыми орехами".
Папа относительно выезда за границу колебался. Мы с сестрой, окруженные паническими слухами беженцев, пользовались всяким случаем, чтобы отослать записочку в Крым, и умоляли маму отправить папу за границу. На общем совете с Иваном Яковлевичем мы решили ехать в Константинополь с намерением оттуда переправиться в Прагу. Там мы с сестрой могли бы учиться и работать. С художественным оформлением книг, как говорили Ивану Яковлевичу, там тоже дело обстояло лучше, чем в других славянских странах. В Праге папу знали, любили и звали его туда, поэтому мы надеялись соединиться там с нашей семьей.
Иван Яковлевич продал своему меценату несколько этюдов и лист со Святогором. Тотчас, как он сделался Крезом, он по-рыцарски предложил отвезти нас за границу. Пройдя через горнило всяческих хлопот и миссий, очередей среди испуганных и растерянных претендентов в эмигранты, мы, наконец, 21 февраля поднялись на борт парохода "Саратов". Чтобы избежать скопления на пристани панически настроенной толпы и давки, пароход отвели к цементному заводу и там стали производить посадку. На пристани стояла только небольшая печальная кучка провожающих. Прощанье было суровым, быстрым и драматичным. Две красивые и юные женщины прощались со своими тоже молодыми и красивыми мужьями — очевидно братьями, оставшимися прикрывать эвакуацию белой армии. Какая-то дама то рвалась, как безумная, на сходни к своим двум детям, уезжавшим со старушкой-няней, то сбегала вниз и металась по берегу. Когда пароход отчалил, она упала без чувств. Мы предположили, что ей пришлось выбирать между безопасностью детей и где-то воевавшим любимым мужем. Но это оказалось не так: она выбирала между детьми и бриллиантами, где-то ею оставленными.
Когда кучка провожающих на берегу за расстоянием стала совсем маленькой, какой-то грубый мужской голос крикнул с облегчением и залихватски весело: "Прощай, Марья Ивановна!"
Но нам было невесело. С Марьей Ивановной оставалась наша Родина со своей загадочной нелегкой судьбой, оставалась русская земля, и маленькая ниточка ее видимости вот-вот готова была порваться. Иван Яковлевич грустно смотрел вдаль. Может быть, он думал как раз то, что сказал однажды о себе и нашей юности: "Нам, певчим птицам и цветам человечества, трудно петь и цвести в такие тяжелые времена".
Ехали мы в полутемном трюме, в тесноте и духоте. Беженцы спали на полу, сбиваясь семейными кучками. Безостановочно стоял крик и плач детей. Большинство пассажиров — народ совершенно неимущий, главным образом семьи военных. Были и одинокие их жены, глубоко волновавшиеся за судьбы своих мужей. Одна из них каждую ночь поднималась на пустынную палубу и, стоя на коленях, часами горячо молилась. Были и купеческие семьи, захоронившие свое серебро и золото в разных уголках русской земли. Теперь удрученные старики уже почти ничего при себе не имели, кроме своих великовозрастных Нюр, Маш и Кать да иконы Спасителя в барахлишке. Но были, как редкость, и столичные барыни, потерявшие почву под ногами, но не потерявшие своих привычек. Одна из них, за неимением горничной, превратила в таковую свою семилетнюю дочь и все время заставляла ее себе прислуживать. Вот такая же, очевидно, барыня потом застрелилась в Югославии, оставив в полном сиротстве свою девочку и записку, что она не может жить без красоты. Были мальчишки, воевавшие на Кубани, теперь работавшие на нашем пароходе кочегарами и матросами; генеральши, ехавшие в каютах; кое-кто из харьковских профессоров, врачей и литераторов. Маленький Сергей Яблоновский встречался с нами на палубе и заговаривал нас до полусмерти. Он мог приводить на память целые страницы прозы из русских классиков. Иван Яковлевич затеял с ним своеобразную игру: заставлял его процитировать какое-нибудь четверостишие из русских поэтов, где бы встречалось заданное слово. И на самые прозаические слова, как, например, сапоги и простокваша, Яблоновский давал моментальный ответ.
Спускаясь в темную трюмную дыру, мы думали, что наше путешествие продлится дней пять, на деле оказалось — три недели. На пароходе стали распространяться сыпной тиф, скарлатина и корь. Больные в ужасных условиях лежали рядом со здоровыми. Пароходный лазарет был всего на десять мест. "Саратов" поднял особый флаг, сигналивший, что на его борту есть заразные больные.
В своем путешествии мы проплыли по четырем морям: Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному. Около Константинополя наш пароход стоял на рейде пять дней. От красоты Босфора у нас захватило дух: не верилось, что на земле существует такая сказочная красота. Тихая вода казалась необычайно легкой, шелковой и теплой, а небо как тончайшая розово-голубая вуаль. На зеленом берегу Босфора в кущах деревьев прятались нарядные белые виллы и дворцы.
У Константинополя, как только мы стали на рейд, нас окружили турецкие фелюги с ярко-красными и оранжевыми парусами, украшенными желтым полумесяцем. И тотчас появились на борту турки со своими, для нас баснословно дорогими товарами — фруктами и сластями. Некоторые дамы отдавали им кольца за несколько апельсинов или шоколад. Иван Яковлевич стремился осмотреть Константинополь, мы тоже мечтали об этом, но пришлось только издали любоваться этим древним городом: на берег никого не пускали из-за нашего карантина. Тем не менее на борту парохода нас разыскал, по просьбе отца, представитель чешского посольства и передал от имени посла, что Билибину и нам будет оказано всяческое содействие как в Константинополе, так и в Праге. Мы же, очарованные красотой Востока, теплом юга, возможностью побывать на Кипре, решили пока в Прагу не ехать. Мраморное море мы нашли тоже обворожительным, хотя не таким живописным и роскошным, как Босфор. У Мраморного моря и всей атмосферы над ним было больше сиреневых и розовых тонов, от чего море казалось перламутровым, а по матовости всех красок оно походило и на мрамор. Из всех морей это было самое светлое и самое безмятежное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: