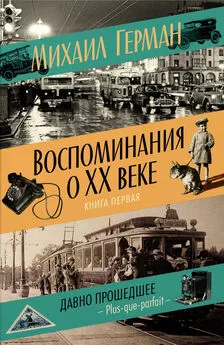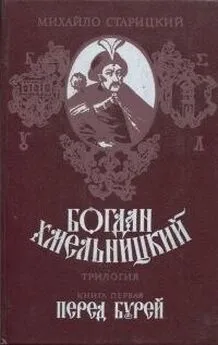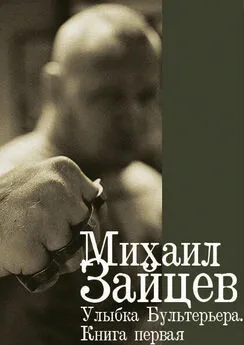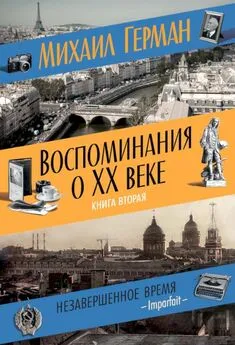Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14212-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание
Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.
Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Кадр из фильма Анри-Жоржа Клузо «Таинство Пикассо». 1956
Кроме того, радетели «сурового стиля» были почти все членами союза. И этому вот «левому МОСХу» или «левому ЛОСХу» (об этом нынче не помнят, и помнить не хотят) случалось хлебнуть поболее лиха, чем даже андеграунду. Диссиденты жили, разумеется, куда в большей опасности, чем все другие художники, но одна их гражданская позиция уже обеспечивала успех. Их репутация в среде либеральной интеллигенции была изначально высока, у них что-то покупали наши коллекционеры и иностранцы. История доказала, что репутация страстотерпцев со временем принесла тем, кто с честью прошел сквозь годы советского режима, славу и успех — и у нас, и за границей. Многие же — вовсе не самые талантливые и известные — до сих пор с удовольствием носят терновые венцы от Кардена и стригут купоны.
А левые члены союза оказывались тогда между двух огней. Инакомыслящие считали их официозом. А официоз их травил, могли исключить из союза, лишить дотаций, мастерских, всего того, ради чего в союз вступали. Начинались общественные «проработки», собрания, травля в художественных журналах (о диссидентах писали только фельетонисты в газетах, для официальной критики они не существовали).
Словом, не так все было просто. И москвичи, что выставились у нас, тоже, кстати сказать, являлись членами союза.
Сереньким ноябрьским днем устроили обсуждение — прямо перед картинами в выставочных залах ЛОСХа. Не помню, был ли кто-нибудь из начальства, не помню даже, выступал ли какой-нибудь сторонник официальной критики, — речи в защиту соцреализма проходили мимо сознания и в голове, как все рутинные ритуалы, не задерживались: все как всегда.
Зато крамольные речи — было ощущение, что участвуешь в антисоветском заговоре! Ощущались лихость и ужас. Никогда — с тех пор, как слушал я чтение письма ХХ съезду о Сталине, — не слышал я слов столь отчаянно смелых и опасных.
Тем более выступали люди куда как серьезные.
Совершенно неожиданно для меня пришла и выступила Антонина Николаевна Изергина. Я слышал о ней постоянно рассказы, и всегда восторженные. Вдова Иосифа Абгаровича Орбели, директора Эрмитажа, и сама давняя эрмитажница, прославленная блестящим профессионализмом и острейшим языком, отвагой в суждениях, крутым нравом, она никого не боялась. Нет, она отнюдь не была диссиденткой, для этого она слишком широко мыслила и почла бы любой экстремизм дурновкусием. Но в критических ситуациях умела взять на себя ответственность, более того, почитала себя обязанной что-то сделать. В союзе я видел ее еще на вечере памяти Пунина (она виртуозно точно продемонстрировала тогда свое пренебрежение к отечественной «реалистической» живописи, сказав о суриковском полотне «Покорение Сибири Ермаком»: «Ну вот эта картина, как ее, где стрелы летят по небу…»).
Антонина Николаевна говорила с той точностью ученого и знатока, которая исключала политическое и конъюнктурное злопыхательство, говорила как опытный врач, формулирующий диагноз. Из ее слов вовсе не следовало, что москвичи — гении, но то, что о нашем официальном искусстве нельзя рассуждать всерьез, следовало со всею очевидностью. И то, что это было произнесено не взволнованным нечесаным мыслителем из котельной, кровно заинтересованным в возвеличивании «своих», а ученой интеллигентной эрмитажной дамой, придавало сказанному смысл аргументированного и бесстрастного вердикта.
И когда выступал Евгений Федорович Ковтун, говоривший о каждом московском госте как о новом Малевиче, было как-то неловко.

Выставка импрессионистов на третьем этаже Эрмитажа (открыта в 1957 году). 1964
Тогда я начал смутно догадываться о том, в чем сейчас убежден. Когда начинается борьба «стенка на стенку» между «левыми» и «правыми», собственно об искусстве думать перестают. Вполне большевистская психология — так сказать: «Ваше слово, товарищ маузер!» Важно, у кого этот самый маузер больше и кто первый выстрелит.
Но конечно, — и это было самым главным — степень свободы. Ибо без свободы ведь и достоинство искусства, и качество его оценить было нельзя. Тогда я понимал все это лишь самую малость. Но я уже смутно догадывался: не все просто, не все хорошо, что хорошо, не все дурно, что плохо, и лукавства полно в этом мире! Даже у прекрасной Изергиной была толика кокетства, впрочем высокопробного и — на пользу делу. Слушая ее, не хотелось суетиться, казаться. Хотелось думать, много знать и обрести спокойное чувство собственного достоинства.
Было ощущение новой и несколько тревожной волны свободы, звонкое и опасное. В Москве, в Манеже, на юбилейной выставке МОСХа впервые показали Фалька, других почти запрещенных художников, а на втором этаже — новых молодых.
Через несколько дней в лектории Русского музея я читал лекцию о современном западном искусстве. Не стану утверждать, что в этой скользкой по тем временам области я был крупнейшим специалистом. Но тогда этой темой занимались немногие, и с позиций тоже вполне экстремистских: утверждали, что это «кризис безобразия» либо что только западное (причем в таком салонно-формальном варианте) хорошо. Не могу сказать, что моя позиция отличалась особой смелостью. Просто я не робел перед аудиторией и в рамках дозволенного старался объяснить, что и за пределами соцреализма бывает интересно.
Задавали какие-то вопросы, я отвечал достаточно либерально и, вдохновленный впечатлениями от выставки москвичей в ЛОСХе, неосторожно.
Последним задал вопрос человек, похожий на отставного военного, в кителе без погон. «Товарищ лектор, вы читали сегодняшний номер газеты „Правда“?» — спросил он. Я легкомысленно ответил, что нет, не читал, и почти забыл об этом.
Испугался запоздало, уже на улице. В ту пору найти «Правду» на ближайшем заборе даже гонимому страхом человеку было недолгим делом.
«Высокое призвание советского искусства — служить народу, делу коммунизма» — называлась статья в главной нашей газете.
«Вчера, 1 декабря, руководители партии и правительства посетили выставку московских художников, устроенную в Центральном выставочном зале и посвященную 30-летию Московского отделения Союза художников».
Словом, Хрущев «посетил» Манеж. Светленький декабрьский день — вовсе не метафора — показался сумеречным, липкий, такой знакомый, привычный, словно бы и уютный («все как всегда») страх упал на меня. Власть не давала забыть, в какой стране мы живем. Опять можно было ждать чего угодно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: