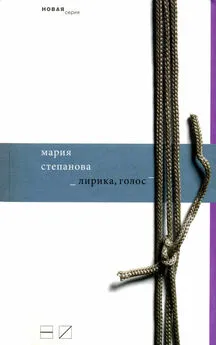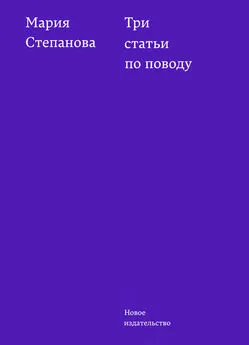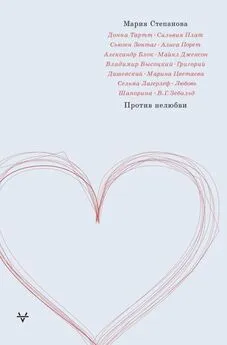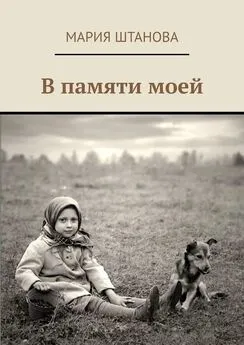Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем сильней искушение рассматривать последовательность рембрандтовских холстов как развертку: своего рода графический роман, героем которого оказывается лицо . С ним и происходят все положенные события и приключения, словно оно — персонаж, с которым можно делать что захочешь, позволяя любые искажения и смещения. И они происходят, и вовсе не только сюжетные. То есть да, метаморфозы лица сопровождаются переменами антуража; направо пойдешь или налево — все равно побываешь героем, царем, неудачником, стариком, нищим, никем, собой. Иногда это я оказывается более удачливым, чем на самом деле, — нарисованным в одежде и позе князей этого мира. Иногда — много раз, так настаивают на заслуженном — с золотой нагрудной цепью, знаком артистического успеха; Рембрандту такая не досталась, но картине виднее. Но чаще всего художник в прямом смысле слова проверяет модель на прочность — на способность к развоплощению.
Вещество любовности , неразрывно связанное с ручным трудом, с прикосновением кисти к холсту и мазка к мазку, сочетается здесь с мощной энергией отстранения — проще говоря, расставания. Нарисованный Рембрандт меняется от холста к холсту, сохраняя неизменной середку — почти как герои мультиков и комиксов, Тинтин или Бетти Буп, изображение которых сводится к знаку, нескольким гротескным свойствам, сгруппированным вокруг пустоты. Математическое постоянство отменено вместе с сюжетным, иногда нужды портрета требуют сделать глаза поменьше, иногда побольше, иногда они поставлены шире, иногда тесней. То же с подбородком: он удлиняется и снова укорачивается. Зато остается в неприкосновенности нос, и если считать черты лица набором персонажей, то комический и упрямый нос с его одутловатым кончиком оказывается героем, центром повествования.
И еще ухо, ухо с мясистой мочкой. Есть апокрифический рассказ о том, что Рембрандт намеренно затемнил прекрасно написанную Клеопатру — с тем, чтобы эффектней выделить единственную жемчужину. Клеопатра, если и была, не сохранилась. Зато в раннем автопортрете 1628 года с его пленительным смешением розовости и рыжины, прозрачных теней и мерцающих поверхностей такой жемчужиной оказывается ухо. Освещение там, что называется, режимное: такой свет, прощальный, предвечерний, спасает любую фотографию и киносъемку, сообщая ей ниоткуда взявшееся совершенство. Лицо погружено во мглу, высвечена только самая луковка носа; зато часть шеи, нежная щека с волосками, участок белого воротничка словно позолочены последним солнцем, и кольца волос на загривке отблескивают проволокой. Центр композиции вслед за светом сдвигается влево, и багровеющая ушная мочка (непомерно раздутая, словно только что прокололи ухо, и вот оно саднит и пухнет) становится сразу всем: и закатом, и драгоценной серьгой, и слепым, затянутым плотью третьим глазом.
Или женский портрет, написанный в 1633-м; где-то в Цинциннати у него есть пара — бородатый мужчина, встающий с кресла навстречу. Это парадная работа, демонстрация мастерства: густые лапчатые кружева, черный и винно-красный, серьги и цепочки складываются в набор символических значений, которые можно было бы читать, как ребус. Но все это почти не имеет отношения к широкому, как поднос, лицу, поверхность которого — не текст сообщения, а ровная гладь сосредоточенного слушания. Что-то в нем при этом кажется знакомым, словно поплавок появляется из-под воды и уходит в воду, тревожит и отвлекает от задачи, так лихо выполненной живописцем. У Молодой Женщины с Веером нет имени и биографии, что дало кому-то возможность предположить, что не было и самой женщины и что обе работы — нечто вроде выставочных образцов, написанных, чтобы показать себя и привлечь заказчиков. Что-то в ее фигуре, в развороте плеч, в том, как поддернуты рукава, как лежит на ручке кресла крупная рука, смутно противоречит шелку и золоту задачи. У нее далеко расставленные глаза (складка кожи чуть нависает над одним из век) и такой же широкий лоб, грубая форма носа (одутловатый кончик чуть покраснел) и выражение лица, сочетающее предельную степень внимания и мальчишескую, дурашливую готовность. Я не могу отделаться от мысли, что Рембрандту понравилась идея написать свою женскую версию, еще один из вариантов возможного-невозможного существования — тем более если вдруг понадобился портрет неизвестной.
Насупленные удивленные ухмыляющиеся довольные самодовольные недоверчивые отчаявшиеся отрешенные кудлатые приглаженные подобия Рембрандта действительно образуют своего рода шкалу, она же школа. Лицо как бы учит себя без остатка совпадать с любым предъявленным эталоном — и от него отказываться. Так дрезденский автопортрет с мертвой выпью — усы, берет с пером, поднятая рука держит птицу, как голиафову голову, — рифмуется еще и с победным Самсоном, руки в боки стоящим у отцовских дверей.
Еще экономней работают поздние, скупые автопортреты с их темными шляпами и белыми льняными шапочками, под которыми последовательно тестируются лица примирения, отчаянья, насмешки. У них есть, кажется, общий итог, особое свойство взгляда, которое проще определить в апофатическом ключе, сказать себе, чего там нет. Нету, кажется, главного родового свойства жанра: попытки проникновения. Портрет с его отчетливой собранностью в пучок таранящих значений — персонифицированная просьба о внимании, о месте под солнцем. Он пытается открыть твою голову, как дверь, войти, остаться. У него есть интенсивность письма в бутылке, сообщения на автоответчике — послания, которое рано или поздно станет последним.
Рембрандтовские автопортреты — существа другого вида, они не ищут внимания, но со всей мыслимой щедростью предоставляют тебе свое. Это общее свойство внутреннего пространства картины — и взгляда, который встречает на пороге, открывается и впускает, образует мягкую ямку для совместного пребывания, внутриутробное пространство, заведомо предназначенное для прощания. Что и с чем расстается тут, что кончается, едва успев начаться? Если помнить о том, что мы глядим (хоть на тот же портрет в желтой робе) в прямом смысле глазами Рембрандта, из его головы — словно она телескоп, за медную монетку придвигающий к нам удаленный сегмент действительности, — то в эту минуту мы с нежностью и благодарностью покидаем самих себя. То, что тут происходит, — одновременное исчезновение обеих чашек весов, обеих частей уравнения, игрека вместе с иксом. В ямке, на опустевшем месте встречи, остается его постоянный жилец: невидимая мертвая обезьяна.
Глава третья, Голдчейн складывает, Вудман вычитает
В зебальдовском «Аустерлице» есть длинный, на страницу или больше, перечень конфиската — того, что вывозят из квартиры пражских евреев после того, как хозяева устранены. Все идет в дело, вплоть до банок земляничного варенья с их консервированным летним светом. Пути вещей (чуть не написала «посмертные») иногда можно проследить, и есть даже фотографии складов, где их собирали и держали, — что-то вроде пересыльных лагерей, бараков для пленных предметов. Там длинные, как свадебные, столы, тесно заставленные осиротевшим фарфор-фаянсом, жутковатым в своей нарядной наготе, и похожие на нары деревянные полки с незнакомыми друг другу кастрюлями и сковородками, чайничками и соусниками, словно чей-то буфет вскрыли, как живот, и содержимое полезло наружу — да, собственно, так оно и было. Есть помещения, где толпятся полированные шкафы, и есть шкафы, где аккуратными стопками сложено остывшее постельное белье, пожилые наволочки и пододеяльники. Это было чем-то вроде закрытого распределителя — места, куда привилегированные граждане могли прийти и получить в подарок вещи чужой, остановленной жизни; такие были и в советской России — шубы и мебель упраздненной буржуазии доставались теперь победителям, людям новой формации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: