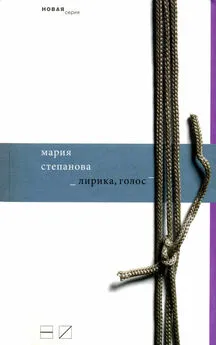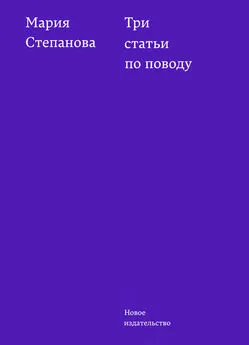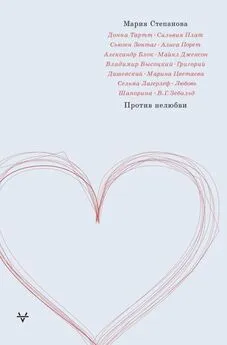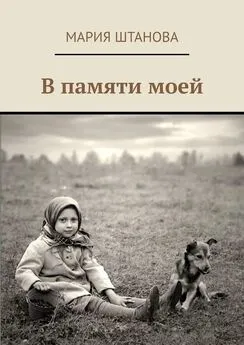Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На территории современной Европы с ее едва затянувшимися ранами, черными дырами и следами перемещений- removes , сметавшими с лица земли человеческие множества, хорошо сохранившийся семейный архив — редкость. То, что когда-то называли обстановкой, — сложившееся за десятилетия единство мебели и посуды, которое достается в наследство от теток и бабушек и которым принято тяготиться как устаревшим, — заслуживает специального мемориала. Обычно у тех, кому приходилось бежать (все равно от кого), сжигать документы, кромсать фотографии, отрезая все, что ниже подбородка — офицерские погоны, мундир чиновника, — к концу пути остается очень мало вещей, за которые память могла бы зацепиться в надежде выплыть .
Упражнения по приближению-пониманию прошлого напоминают детские тесты, где надо рассказать историю, исходя из предложенной картинки. Или, того пуще, дорисовать фигуру, полагаясь на три-четыре точки: глаз, хвост, лапу. Волей-неволей тебя тут видней, чем тех, кто был здесь до того, как я появилось на свет. Да и выбрать опорные точки практически не из чего, как это случилось с большей частью тех, кто выбрался из-под туши двадцатого века, захватив с собой что пришлось.
Что делать, когда всей наличности у твоего воображаемого — на два пятака: открытка, пять случайно сохранившихся снимков? Каждый предмет тяжелеет и наливается весом, связи между ними — бывшие и придуманные, густо смазанные априорным знанием о предмете — выстраиваются как бы сами собой. Вещи старого времени, застигнутые врасплох, оказываются неловко, по-стыдному обнажены: им как бы нечем больше заняться. Лишенные прежних хозяев и функций, они обречены на чистое существование; так человек выходит на пенсию и разом разучивается жить. Мне всегда странно читать о них в третьем лице , словно это тоже своего рода мартиролог, и список одежды, с которой десятилетняя я отправлялась в пионерский лагерь (три белых футболки, синие шорты, пилотка), ничем не отличается от описей имущества, которые так любили по всякому поводу составлять в семнадцатом веке: перечней камзолов, подвязок и штанов. Они, что ли, очень медленно остывают от человеческого присутствия, от замеченности и упомянутости, и каждая вещица кажется прикрашенной и умильной — на время выхваченной из небытия. Наряду с цветным матерчатым камзолом и старым черного шелка жилетом здесь можно встретить пять плетеных корзин из Ост-Индии, зеленый армозиновый кушак, шесть волосяных париков, трость, сиречь палку для ходьбы с навершием из слоновой кости, и турецкую курительную трубку . Это список вещей, принадлежавших Лодевику Ван дер Хельсту, сделанный в Амстердаме 7 января 1671 года по случаю переезда, он длинный, и чего там только нет, включая шелка и другие ткани и прочее, что потребно для живописного искусства . О художнике Эдо Квиттере, кажется, не известно вовсе ничего: только что он умер в 1694 году, и все, что осталось, — опись, составленная 10 декабря, где еще живые вещи зовут по имени:
Три старые черные шляпы.
Красная польская шапка.
Красной кожи поясной ремень.
Пара черных рукавов.
Две пары старой обуви.
Серебряное кольцо-печатка.
Домашние туфли цвета пурпура.
Книга Рафаэля Голдчейна «Я сам себе семья» («I am my family») вышла в Нью-Йорке в 2008 году. Это скорее то, что называется альбомом или каталогом, бумажный эквивалент завершившегося художественного проекта; у нее есть подзаголовок «photographic memoirs and fictions», где каждое существительное двоит: воспоминания-то ладно, но fictions здесь упорно хочется перевести не как фантазии, но как фикции, обманки. И это поразительная книга о памяти и ее тщете.
Голдчейн родился в Чили в 1953-м — он, что называется, survivor второго поколения, сын и внук тех, кто успел спастись. «С начала 1920-х и до кануна Второй мировой войны большая часть моей семьи эмигрировала из Польши в Венесуэлу, Коста-Рику, Бразилию, Аргентину или Чили. Еще несколько обрели новую жизнь в Соединенных Штатах или Канаде. Кто-то покидал Польшу, надеясь вернуться туда с деньгами и помочь своим семьям, но начавшаяся война сделала это невозможным. Все мои родные, оставшиеся в Европе после начала Второй мировой войны, погибли в Катастрофе».
Начало проекта (а как еще это назовешь) похоже на все начала: отец рассказывает сыну историю, шаг за шагом все глубже в нее погружаясь. Судя по всему, Голдчейн не очень интересовался семейными делами до тех пор, пока не стал родителем; в его доме о прошлом не говорили, такая немота — своего рода запечатанность, как у бутылки с посланием, которую еще не пора открыть, — вещь обыкновенная, «у нас не принято было об этом вспоминать», «он всегда молчал», «она не хотела говорить об этом», повторяют внуки и правнуки. Он жил там и сям, в Иерусалиме, в Мехико, в Торонто, и ближе к сорока годам, с рождением сына-первенца, понял вдруг, что ему сейчас примерно столько же лет, сколько было его дедушкам и бабушкам перед Второй мировой — и что он ничего о них не знает, даже о тех, с которыми прожил целую жизнь.
Приходит день, когда разрозненные участки того, что тебе известно, надо соединить в линию передачи . То, что тесто подразумеваемого обретает твердую форму только в момент рассказа, теряя при этом в объеме, — трюизм; но тут есть внятная закономерность. Вот эмблематический сюжет, картинка из золотой библиотеки общего опыта: отец или мать рассказывают ребенку семейную историю, перекладывают ее из уст в уста. Так начинается «Маус», классический текст о Катастрофе и о том, как о ней говорить; так начинаются сотни других: «Крошка сын к отцу пришел / и спросила кроха: / что такое хорошо / и что такое плохо?»
Когда слушателем оказывается ребенок, упрощение вдруг делается не просто закономерным, но необходимым: углы скругляются, лакуны заполняются как бы сами собой. Рассказ о прошлом всегда рискует стать рассказом о будущем; приходится делать знание выносимым, огибая болевые участки и восстанавливая распавшиеся связи, иначе мир рухнет. В конце пятидесятых годов Любовь Шапорина, одна из самых пристальных и едких хронистов послереволюционной России, пережившая две войны, блокаду, сталинские чистки, ни на что уже не надеющаяся и мало во что верящая, вдруг оказывается на каникулах в Швейцарии, у благополучных тамошних родственников. Она хотела бы рассказать, поделиться, переложить свое знание в чьи-то руки, но именно это оказывается невозможным; о том, что только для нее и важно, не хотят ни говорить, ни слушать: «Саша не разрешал меня расспрашивать о блокаде, войне». Она относится к этому с каким-то потусторонним пониманием — так, сверху и издалека, должны смотреть призраки на страхи живых. «Я же не стала бы говорить о том, до чего больно дотронуться».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: