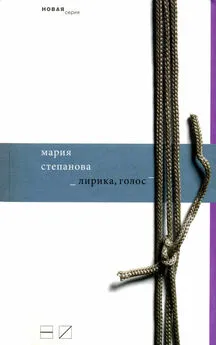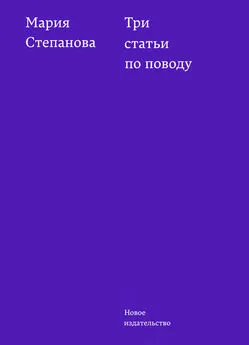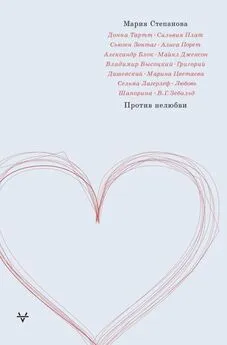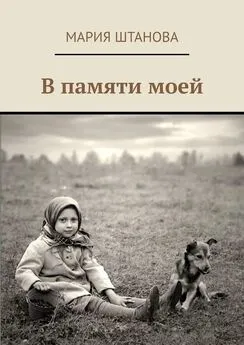Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Где-то в нижних ящиках родительского полированного шкафа копилось все то, чему вряд ли удастся пригодиться или порадовать; на бювар с письменными принадлежностями (узкие конверты с шелковистым ягодным нутром, рыхлая бумага с неровным обрезом) можно было полюбоваться — но в жизни напрочь не было событий, для которых все это могло сгодиться, использовать все это, всерьез или в шутку, было бы малопристойным маскарадом. Несколькими слоями ниже находились слоистые залежи нот. В нашей растерявшей музыкальные навыки семье их было некому разобрать. Когда в 1974-м мы переезжали на новую квартиру, пианино, семьдесят лет простоявшее на Покровке, попало в число необходимого: того, что нельзя не взять с собою в новую жизнь. Обеденный стол-сороконожка, за который усаживались по двадцать человек, огромный резной буфет, похожий на дом, кресло-качалка и длинная люстра с хрустальными ярусами остались там, в старой. Зато «музыкальный инструмент», как портрет полузабытого родственника, занял свое пристенное место и тихо стоял там, претерпевая мои подневольные гаммы, этюды, старинные французские песенки, пока они не иссякли сами собой. На верхней крышке были рассажены в строгом порядке плюшевые звери; под крышкой, там, где струны образовывали что-то вроде широкой полости, я прятала шоколадки и запретное чтиво — понятно, что здесь искать не будут.
Другое дело были старые ноты — вслепую (для меня, равнодушной) закапанные черной ягодой созвучий, зато интересные другим: немыслимыми в советском обиходе названиями, муравьиными текстами, за которыми надо было следить, перебегая за сюжетом от такта к такту, от слога к слогу: он ле-жит пла-стом, чер-ный мальчик Том, он рож-ден в Ал-жи-ре… Иногда попадались и картинки — смутно помню обложку «Салонного вальса „Сон Любви После Бала“», ангелочков, роящихся над уснувшей дебютанткой, пух и шелк бальной робы, туфельку на ковре. Все это было старинное — и не в смысле временной удаленности: двадцатые годы двадцатого века тогда еще казались вчерашним днем. Нет, дело было в совершенной несовместимости тогдашнего и сегодняшнего, тоже тесного от еле переносимого счастья — но деревянные сиденья пригородной электрички, гулкие, голубоватые, пахнущие щелочью и сметаной прилавки дачного продуктового магазина имели в виду другой текст, другие ноты. По соседству, в хозяйственном, в деревянных ящиках масляной грудой лежали разных размеров гвозди; на рынке продавали черноухих кроликов и деревянных ангелочков, плохо крытых золотой краской; дальше, до телефонной будки, тянулась очередь за квасом.
Премию «Русский Букер» обычно дают романам, пытающимся имитировать протяженность и связность жизни, распавшейся на лоскуты где-то между Первой и Второй мировой. Но однажды, в 1996-м, ее получил текст, романом вовсе не являющийся, — «Альбом для марок» Андрея Сергеева, повествование, составленное из фрагментов: цитат, перечней, отрывков, слов и словечек, каждое из которых было укрупнено до состояния витрины — чистого стекла, предохраняющего экспонат от развоплощения. Под стеклом хранилась языковая и звуковая взвесь нескольких советских десятилетий, как раз тех, что я отродясь обшариваю, как собственную сумку, в поисках потерянного ключа: тридцатых, сороковых, пятидесятых. Рассказ о детстве, устроенный как каталог музейной коллекции, где каждой вещи предоставлено место и право на нераздельное внимание, вроде как соблюдал хронологическую последовательность — но вместо того чтобы катиться по наклонной плоскости к концу повествования, текст всячески от этой обязанности увиливал. Всякая строчка там была предназначена для многократного рассматривания; и разнообразие видов, представленных в этом тесном музее, наводило на мысль о том, что идеальным его посетителем был бы вовсе не человек с его, как-никак, ограниченным временным запасом.
Переводчик Элиота и Фроста, Сергеев был еще и серьезным нумизматом — одним из редких понимающих людей в этой, полуподпольной в советские годы, вселенной. Его коллекция считалась образцовой, хотя мало кто мог оценить ее по достоинству; и была у нее специфика, которую мне кажется важным упомянуть. Сергеев собирал то, что называется варварскими подражаниями античным монетам. Где-то поближе к границам ойкумены греческие или римские монеты обретали вторую, беззаконную жизнь. Промышленная чеканка с ее столичным качеством становилась и образцом для подражания, и точкой отталкивания: вместо собственной монеты полукочевые племена и микроскопические княжества изготавливали пародию на всеобщую — что-то вроде долларов, напечатанных на струйном принтере. Вместо серебра и золота в ход часто шла медь, о точном воспроизведении столичного шаблона и речи не было — сохранялись лишь самые общие черты. Если считать деньги универсальным языком, то, что происходило тут, было машинным переводом; он, перевод этот, был заведомо схематичным, словно неполное соответствие исходному тексту входило в условия задачи. Часть контрафактных монет никогда и не шла в оборот: золотые и медные имитации с самого начала задумывались как украшения, из них делались подвески, ожерелья. Все, что было надо, — кивнуть недостижимому образцу, тут же о нем забыть и жить дальше, гремя и побрякивая, в сознании своего преемства.
Временно́й отрезок, что описывает Сергеев, был такой варварской монетой: жизнь, вынутая из пазов в 1917-м, растерянно замерла на несколько холодных, лютых зим и осторожно двинулась вперед, нащупывая каждый новый шаг, имитируя, что получится, но с каждым днем грубее, прямее, безнадежней. В некотором смысле жизнь советского интеллигента сводилась к двум взаимоисключающим схемам: ее можно было понимать как робинзонаду, курс выживания на острове, населенном враждебными племенами, где собеседников не выбирают, всех книг одна Библия, и каждый клочок, напоминающий о доме, становится драгоценностью. Или, как многие, как большинство, решить, что мир изменился необратимо — и пора неволей иль волей меняться следом за ним. В мемуарах композитора Каретникова есть комический сюжет с мрачноватой подсветкой — где-то в начале 60-х в крымском курортном поезде старушки «из бывших» обсуждают у вагонного окна, чьи земли мы проезжаем, Лобановых-Ростовских или наши. Эти-то уж точно наши? Их седовласый спутник задает рассказчику вопрос еще более неожиданный. «Безо всякой подготовки он продолжил: „Скажите, вы сотрудничаете с большевиками?“ Я промямлил нечто вроде: „Да иногда случается“. — „А вот я сразу вступил в партию… Я сразу понял, что иного не дано!“»
В этой категории граждан были и те, кто с самого начала причислял себя к победившей партии и мечтал вытеснить из себя и мира старый порядок, и те, кто мутировал, почти не замечая этого, едва ли задумываясь, какой породы зверем проснется лет через десять. На самом-то деле они были ближе друг к другу, чем казалось им самим; у пламенных революционеров обнаруживались какие-нибудь старомодные слабости вроде «Аппассионаты» или русских романсов, инженеры старой закалки вдруг начинали мериться пятилеткой. Клеклая, сырая, пористая масса новой человеческой общности была источена коридорами, каждый из которых прокладывался впервые; все это, с примусами и патефонами, должно было произвести на свет нечто совершенно новое — но что-то не склеивалось. Вместо собственной валюты жизнь медленно и верно, не заботясь о точности рисунка, продолжала воспроизводить формы, ей хорошо известные. Диковатые гибриды, что она отчеканила, Сергеев сохранил в «Альбоме для марок», как варварские денарии и ауреусы, найденные под Таманью или Тернополем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: