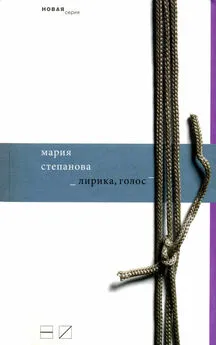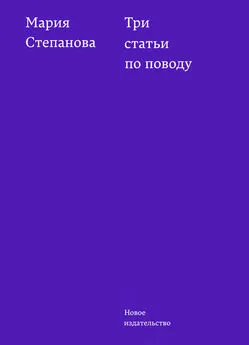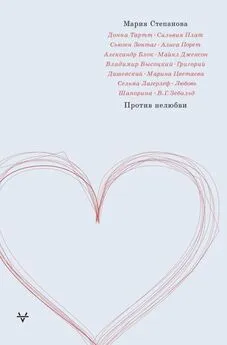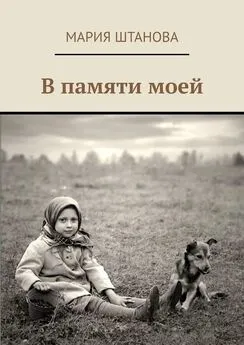Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Среди множества пленительных перечислений и перечней этой книги (имена футболистов, советские и трофейные фильмы, дома Мещанской улицы с вывесками, кариатидами и магазинами, сексуальный фольклор, матерные загибы, письма, аттестаты, удостоверения) есть особенный ряд: это звуки, переведенные на письмо единственным, видимо, возможным способом. То, чего нельзя воспроизвести — напеть, сыграть, насвистать, — но нельзя и оставить неупомянутым, заменяется значком, зарубкой. Имена певцов, названия оперных арий, две-три строчки из песни, а то и два-три слова размещены в книге гнездами, и каждое из них ждет своего понимальщика — того, кто помнит всё вместе с автором. В этом есть какое-то доверие к естественному ходу событий: еще долго-долго слова «Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сияньи дня» будут запускать в чьем-то уме немедленное вращение музыкальной фразы, неотвязной и трудноостановимой. В свой час от нее не останется ничего, кроме царапин на пластинке, звук перейдет в штриховку, в ее ровный дождевой шорох. Андрей Сергеев погиб в 1998-м. Это был год, когда умерла моя мама, год, когда под 9 мая московские улицы заволокло метелью, год июльского урагана, когда ветер сносил тяжелые рекламные щиты и на черных мостовых лежали плашмя деревья в листве и оборванных проводах. Сергеева сбила машина в ноябре, когда он шел домой с литературного вечера. Бо́льшая часть пластинок, упомянутых в его книге, все еще крутится у меня в голове; но кое-каких уже не найти ни в интернете, ни в памяти старших товарищей.
Ноты, что покупали мои родственники, были нехитрые, предназначенные для домашнего, при гостях, музицирования: все больше вальсы-фокстроты-танго, чтобы можно было тут же потанцевать, романсы, уверявшие, что мы будем с тобой молчаливы, пестрый набор другого вокального — от Кальмана до Вертинского. Разглядывая это все, вспоминаешь, как широк он был, обиход непритязательного пения, и какая индустрия была с ним связана. Fox-trot «Магомет» («Всюду громадный успех!») был напечатан в Баку, «Новый цыганский романс „Ахъ глаза“» (слова и музыка М. Бергункера) — в издательстве «Южная Пальмира», гордо называвшим себя «1-м на Юге России нотоиздательством». С обложки смотрели два тяжко подведенных глаза, чуть ниже значилось: «Издание Б. А. Матусиса и Ф. И. Свиста. Одесса, ул. Полтавской Победы, № 62». «НОТЫ М. МИШЕЛЬ» продавались в самом Петрограде, в Гостином дворе — и потому выглядели с особой солидностью: широкие поля в узорах, медальоны с портретами певиц. Над нотами вальса из «модной оперетты „Баядерка“» крупным детским почерком было написано «ЛЕЛЯ» и «15 марта 1924»; тут же реклама в рамочке: на что обратить внимание. «БОЕВИКИ: песня девушки Паля и романс Шандора», «Романс настроения: ХОЧУ ВЕСНЫ!.. (…и роз пунцовых, красных роз). Муз. Б. Костомарова».
Самое интересное — на оборотах: тесно, строчка к строчке, подобранные названия, по сотне-другой на лист, и вот тут-то понимаешь весь подземный, вытесненный на периферию знаемого мира объем ушедшего звукового . «Уснуть, Умереть», рядом «то же для низкого голоса». «Ты полюби» для сопрано. «Ты полюби» для контральто. И, сверху вниз, по хроматической лестнице радости-страдания:
Что ты, барин, щуришь глазки?
Любим ли я?
Я люблю вас так безумно
Но я вас все-таки люблю
Я не играю вовсе вами
В твоих очах блестели слезы
Блондинка-чаровница
Вчера я видел вас во сне
Расставаясь она говорила
Не надо тебе золотой диадемы
Скажи мне за что?
Он изменил тебе с другою
Позабудь, все трын-трава
Все это — «романсы и песни из серии „Цыганская жизнь“»: без счету повторяемое друг милый, звезды и зори, утро туманное, утро седое, колокольчики-бубенчики, темные ночки, белой акации гроздья душистые, розы, ваш аромат, когда распустится сирень, бесконечные «хочу» и «не хочу», среди которых есть и бальмонтовское «Хочу быть дерзким…», Бог весть кем положенное на музыку, и песенька Кузмина «Если завтра будет солнце, мы во Фьезоле поедем…», тоже прижившаяся в общей голубятне. Трудно представить себе сейчас, как все это пелось, бормоталось, ворковало одновременно, миллионами голосов — в этажах и меблирашках, в отдельных кабинетах и на дачных верандах, над клавишами, под граммофон, лилось, как из лейки, из распахнутых окон, пока не залило всю Россию, а потом начало пересыхать, пожужжало еще, как волчок, и впиталось в землю. Количество музыки, растворенной в тогдашнем воздухе, еще не привыкшем к другим отрадам, было чрезмерным, набухало тяжелыми облаками, не разрешалось дождем.
То, что предусмотрительный Дю Морье предлагал разливать по бутылкам, уже консервировалось, скручивалось в черные блескучие пластинки. С приходом звукозаписи скромным подражательницам Патти, наполнявшим оперные арии и романсы Глинки собственными голосами, стало незачем трудиться. Карузо и Шаляпин сами входили в каждый дом и не нуждались в посредниках. В новом веке уже не пели, а подпевали, знали мелодию не с нот, а с голоса, с его сырого, неотразимого образца. Музыку начали больше слушать, чем исполнять; незаметно, исподволь она перестала быть домашним делом — примерно тогда же, когда и сама домашность обнаружила свою эфемерную природу, оказалась легкой, размером с наволочку, какую можно сложить в дорожный чемодан. Музыка, как и многое другое, превратилась в инстанцию авторитета, his master’s voice . Собираются у радиоточки; меняют патефонные пластинки; торопятся в кинотеатр — перед началом джаз.
Удивительно, как быстро, лет за десять-пятнадцать, старый обиход затонул окончательно; мир, что описывался заголовками с нотных обложек, вдруг оказался невосстановимым вместе со своей звуковой оболочкой. Не рояльные клавиши исчезли и не раструбы граммофонов, а тип чувства, которое гудело и гремело над ними. Лицевая сторона жизни, та, что поддается фотографированию и засматривает в глаз киноаппарата, в это технически оснащенное время уже оставляла отпечатки на чем придется. Обложенные беззвучием, словно дополнительным слоем снега, все эти зимние набережные с извозчиками и их — очень прямо сидящими — ездоками, полустанки с пляшущими детьми, спины стерлядей и шляпы прохожих кажутся неуязвимыми в силу полной бесцветности. Этот черный цвет не черный и белый не белый, словно рисовали пеплом по сухой золе. Разве что старый Толстой в неповоротливом тулупе кажется полностью, без оговорок, живым в этом призрачном раю, когда он тяжким шагом подходит к лошади и вдруг махом взлетает в седло: пора на прогулку. Все остальное, а сколько его, знают архивы и архивисты, требует осознанных усилий по экскавации, размораживанию, одушевлению; чаще всего им неоткуда взяться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: