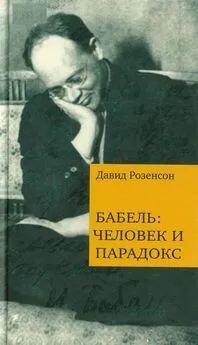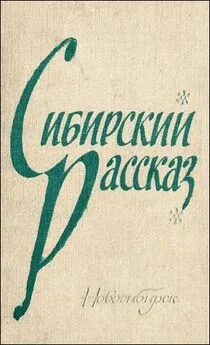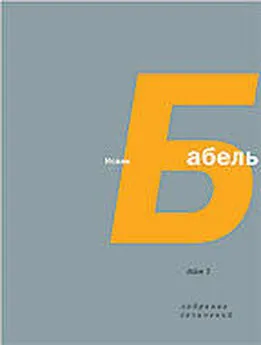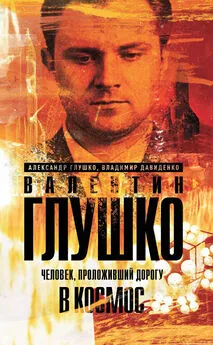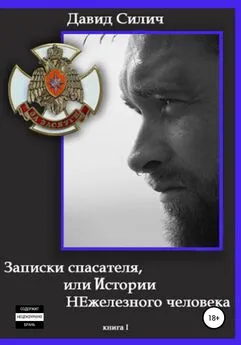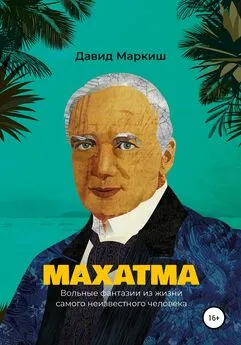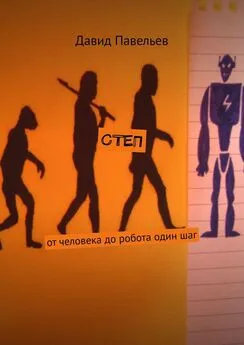Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс
- Название:Бабель: человек и парадокс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники, Текст
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1292-4, 978-5-9953-0373-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс краткое содержание
В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу. Вместе с читателями автор книги пытается найти ответ на вопрос: в чем сложность и тайна личности Исаака Эммануиловича Бабеля?
Бабель: человек и парадокс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это, впрочем, было написано до официальной реабилитации Бабеля, во времена молчания, когда даже те, кто любил писателя из Одессы, кто восхищался им, опасались вслух произносить его имя. Возвращение Бабеля на литературную сцену — если скудные публикации можно так назвать — откладывалось до смерти Сталина.
Илья Эренбург (1891–1967) — крупный советско-еврейский писатель, журналист, переводчик и деятель культуры, немало сделавший для реабилитации целых слоев русской и мировой культуры, — пользовался уважением Бабеля, хотя и был жрецом советского режима и одним из немногих, кто избежал сталинских чисток. Эренбург часто встречался с Бабелем. Однако, по словам дочери Бабеля Натали, в 1946 году зачем-то солгал Евгении Гронфайн, первой жене писателя, что Бабель жив и «проживает под наблюдением неподалеку от Москвы».
Власти реабилитировали Бабеля 23 декабря 1954 года. После знаменитого хрущевского разоблачения культа личности Сталина на XX съезде ЦК КПСС в 1956 году вышел сборник рассказов Бабеля с предисловием Эренбурга. Это издание открыло путь последующим, хоть и подверженным цензуре изданиям; после публикации 1957 года на семь лет наступило затишье. Одиннадцатого ноября 1964 года в своей речи на литературном вечере в честь семидесятилетия со дня рождения Бабеля, спустя десять лет после его реабилитации, Эренбург прилюдно с глубоким чувством заявил: «Это самый большой друг, которого я имел в жизни… Я шутя называл его „мудрый ребе“, потому что он удивительно глубоко смотрел на жизнь… Говорил часто: „А лучше поглубже“. Хотел видеть то, что глубоко…»
Константин Паустовский (1892–1968), соискатель Нобелевской премии по литературе в 1965 году (премия досталась более просоветскому писателю Михаилу Шолохову), был другом и почитателем Бабеля. В воспоминаниях «Несколько слов о Бабеле» (1966) он пишет о том, как познакомился с Бабелем в Одессе. Он был соседом Бабеля и вспоминает о времени, когда Бабель только вернулся в город из Красной армии. «За Бабелем толпами бегали одесские литературные мальчики… Слава шла об руку с ним». Описывая «талантливейшего сатирического поэта Сашу Черного» (Александр Михайлович Гликберг [1880–1932], эмигрировавший в 1918-м), который публиковался в «Сатириконе», Бабель говорил Паустовскому: «Он был тихий еврей. Я тоже был таким одно время, пока не начал писать. И не понял, что литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь. Нужны цепкие пальцы и веревочные нервы, чтобы отрывать от своей прозы, с кровью иной раз, самые любимые тобой, но лишние куски. Это похоже на самоистязание. Зачем я полез в это каторжное писательское дело!.. Писателю надо не бормотать, а говорить во весь голос. Маяковский небось не бормотал, а Лермонтов, так тот просто бил наотмашь по морде своими стихами…»
Паустовский признается, что рядом с Бабелем чувствовал себя мальчишкой: «О многословии Бабель говорил с брезгливостью. Каждое лишнее слово в прозе вызывало у него просто физическое отвращение. Он вымарывал из рукописи лишние слова с такой злобой, что карандаш рвал бумагу… И вместе с тем он несколько раз жаловался на отсутствие у себя сочинительского дара, на отсутствие воображения. А оно, по его же словам, было „богом прозы и поэзии“».
Завершая свои мемуары о Бабеле, Паустовский, потомок казаков, пишет: «Тогда уже даже неискушенному в литературе человеку было ясно, что Бабель появился в ней как победитель и новатор, как первоклассный мастер. Если останутся для потомков хотя бы два его рассказа — „Соль“ и „Гедали“, то даже два этих рассказа свидетельствуют, что движение русской литературы к совершенству столь же устойчиво, как и во времена Толстого, Чехова и Горького. По всем признакам, даже „по сердцебиению“, как говорил Багрицкий, Бабель был писателем огромного и щедрого таланта» (Багрицкий — псевдоним Эдуарда Георгиевича Дзюбина [1895–1934], российско-еврейского поэта, родившегося, как и Бабель, в Одессе).
И затем Паустовский уподобляет влияние Горького на литературную карьеру Бабеля тому влиянию, которое оказал сам Бабель на своего протеже Паустовского. Отдавая дань памяти Бабелю, Паустовский пишет о его профессиональной этике: «„Ясность и сила языка, — говорил [Бабель], — совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить“. Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя… В литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя».
«У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им, — говорил Бабель Паустовскому. — Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет… Бывает даже, что я плачу от усталости… Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!.. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда. Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков».
Но не только трудности писательского дела мучили Бабеля. Об антисемитизме он тоже не забывал. «Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом… Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело».
Бабель едко замечает, что не выбирал себе национальность, что его еврейство, его идентичность, его истоки и его страдания даны ему от рождения. Однако боль писательства он выбрал самостоятельно и отдаст все на свете, лишь бы продолжать страдать. Он хотел пировать на «празднике богов», хотел получить все целиком и страшился, что на этот пир литературы его не допустят. Он хотел стать органичной частью мировой культуры, мечтал, чтобы его творения были признаны таковыми.
У «праздника богов» возможен целый ряд коннотаций. Он вполне может отсылать к античности, этрускам, грекам, троянцам и скифам, которые устраивали пиры, празднуя важные события, особенно религиозного свойства, но возможно также, что Бабель имеет в виду фреску итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля «Пиршество богов», фрагмент потолочной росписи «Легенда об Амуре и Психее». С детских лет невероятно талантливый, Рафаэль к семнадцати годам перерос родной город Урбино и прославился своими росписями в Ватиканском папском дворце, а также изображениями Мадонны, пронизанными неподражаемым чувством. В 1932–1933 годах. Бабель жил с первой женой и дочерью во Франции, весной 1933-го он навещал Горького в Сорренто, после чего, пробыв несколько дней в Риме, где посетил виллу Фарнезина, и Флоренции, вернулся в Париж.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: